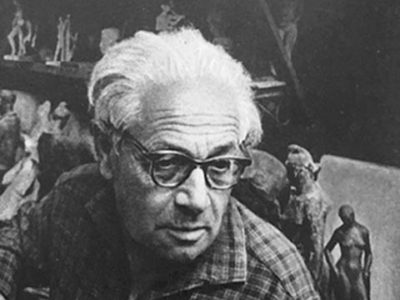О чуде искусства: жизнь и творчество Евы Левиной-Розенгольц
Одна наша знакомая пригласила нас (моего мужа и меня) посмотреть работы ее матери. Мы знали, что ее мать в 1949 году была арестована, выслана из Москвы и вернулась обратно только в 56-м. Жила наша знакомая на окраине Москвы. Эти окраинные дома мне всегда не нравились. Правда, теперь даже здесь ты вдруг попадаешь на кусочек тротуара, вымощенный похожими на черепицу темно-красными кирпичиками, проходишь мимо роскошных витрин, бесшумно открывающихся дверей каких-то офисов. Как правило, выше первого этажа дом обычный, некрасивый. А вот первый этаж, вход, витрины — совсем из другой, не моей жизни.
Пройдя по дивному тротуару, мы вновь очутились на нашем родном разбитом асфальте (хоть бы ногу не сломать!). Вот и нужная нам убогая пятиэтажка. Мы поднялись по замызганной лестнице, вошли в маленькую квартиру, уселись на стулья, и наша знакомая стала нам показывать работы ее мамы, Евы Павловны Левиной-Розенгольц.

«Ева Павловна показала мне сначала свои листы, где было изображено небо с широко написанными облаками, видными сквозь просветы. В них было нечто тревожное, беспокойное. На первом плане стояли голые деревья с безлистными ветвями. Деревья склонялись под ветром. Сучковатые ветки их были жестко обнажены. Никакой другой жизни не было вокруг. По странному уговору я не спрашивал, почему здесь только деревья и ветер. Нужно было смотреть и не спрашивать. Потом все изменилось. Исчезли деревья, всю поверхность изображения заняло небо. Формат тоже изменился: вместо горизонтального появился вертикальный. Все стало свободней, разрывы в небе крупней и заметней.
Затем, может быть, это было и раньше, акварели сменились перовыми рисунками, тушью. Появились люди. Их было много. Что делали эти люди? Трудно рассказать словами. Они стояли группами, освещенные неровным светом, некоторые из них падали, выпрямлялись, поддерживали друг друга. В толпе появился ритм, нечто танцевальное. Эти толпы без цели вызывали чувство беспокойства и тревоги. Про себя я говорил, что в этих листах есть нечто общее с толпой в рисунках Рембрандта.
Затем пошли портреты. Их можно было назвать портретами с большими оговорками. На первый взгляд изображенные люди, похожие на уродцев, понравились мне меньше, чем все остальное. Но среди них были и замечательные лица. Оторваться от этих невиданных людей было трудно.
Затем мы снова вернулись к небу. Теперь оно стало спокойным. Исчезло даже дуновение ветра, только, в отличие от предшествующих рисунков, соотношения здесь стали тонкими и ясными. Казалось, еще немного — и перенесешься в область сновидения, где восторжествует гармония. Я восторгался этим. Меня радовало, что и другие зрители, видевшие эти произведения, переживали их так же сильно».
(Алпатов М.В. «Волнующие встречи».)
Не описывая свое собственное (шоковое) впечатление от работ Е.П. Левиной-Розенгольц, а приведя цитату из статьи одного из лучших искусствоведов России, я не спряталась за чужое авторитетное мнение. Я просто лишний раз рада была убедиться, что истина в искусстве существует.
Что это значит?
Дело в том, что зритель, слушатель, читатель все воспринимает по-своему. И это вполне естественно. Один говорит: «Это гениально!» — а другой на то же самое «это» только руками разводит. Кто прав? Прав тот, кто понял, что хотел сказать художник, композитор, писатель. И как правило, большинство людей, пусть не сразу, пусть со временем, понимают замысел творца. А «понимание — отблеск творения», сказано кем-то из великих древних.

Прочитав статью Алпатова, я обрадовалась, что он увидел в картинах Левиной-Розенгольц то же, что увидела в них я. Значит, «отблеск творения» коснулся и меня тоже.
* * *
Красавица Ева родилась в 1898 году в Витебске (страшно подумать, позапрошлый век!). Как почти все старые города, Витебск очень живописно расположен. Он стоит на высоком берегу Западной Двины, как раз при впадении в нее небольшой речушки Витьбы. Дух жизни в начале XX века в этом городке, связанный с еврейством, стал бессмертным.
«Но тебя опишу я, как свой Витебск Шагал», — сказала о своем любимом Царском Селе Анна Ахматова.
Кроме Шагала, в Витебске работали Малевич, Добужинский, Эль Лисицкий, Ермолаева. И теперь Витебск не просто географическое название. Оно звучит как Мюнхен, Абрамцево, Барбизон.
Ева родилась в большой еврейской семье. Ее отец, купец второй гильдии, торговал огнестрельным оружием и галантерейными товарами. В семье было шесть сыновей и одна дочь. (Пять мальчиков в разное время и в разных местах погибли в послереволюционные бурные годы. Три младших брата Евы были убиты в гражданскую войну в Крыму уже в 19-м году.)
Мать понимала и любила искусство, училась — при такой многочисленной семье! — в «Школе рисования и живописи» Ю. Пэна и в Народном художественном-училище у Добужинского, Малевича, Ермолаевой.
Конечно, главным девизом семьи было — «дети должны учиться». В 1914 году Ева заканчивает Алексеевскую гимназию, а в следующем году она — санитарка и сестра милосердия в городском военно-полевом госпитале. Из небедной семьи добровольно пойти туда, где на каждом шагу боль, кровь, смерть, — этот факт дорогого стоит и много говорит об эмоциональном складе характера Евы.
Но дети должны учиться, чтобы иметь в руках верный кусок хлеба. И Ева, как послушная дочь, по настоянию отца поступает сначала в зубоврачебную школу в Витебске, а потом едет сдавать экзамены в далекую Сибирь, в Томский университет. И в революционный год она получает диплом зубного врача. Как эта «зубная эпопея» была против ее естества, говорит фраза в письме, которое Ева Павловна много лет спустя послала из ссылки: «…Стала писать впервые «Золотую осень» и так рада, что взялась за кисть; меня сильно успокаивает: не то что зубы рвать».
Революция расколола семью. Отец ее не принял. Мать и дочь приветствовали. И у Евы начинается новая жизнь. Она приезжает в Москву. Учится сначала как скульптор в мастерской Эрьзи, потом у Голубкиной. Увлекается живописью, поступает во ВХУТЕМАС, в мастерскую Фалька. Становится его любимой ученицей и блестяще оканчивает курс.
* * *
Интересы живописца Е. Левиной-Розенгольц (после замужества у Евы двойная фамилия) можно назвать разнообразными. Она и главный консультант по росписи тканей, и, увлекаясь детским творчеством, ведет занятия в детском доме. Пишет (в соавторстве) статью о будущем театра — театра на площади, где зрители сливаются в представлении с актерами. Участвует в художественном оформлении советского павильона для Всемирной выставки 1937 года в Париже.
Но в 37-м арестовывают двух братьев Евы Павловны: профессора-микробиолога и наркома внешней торговли (нарком в этом же году расстрелян). Мгновенно Ева Павловна лишается всех своих работ и, чтобы не умереть от голода, устраивается копиистом в МОСХ. Копирует в основном портреты вождей.
В 1949 году, в разгар кампании против «безродных космополитов», как еврейку, да вдобавок с клеймом «родственник врага народа», Левину-Розенгольц арестовывают и по приговору Особого Совещания МГБ СССР осуждают на десять лет ссылки.
* * *
Первое место ссылки — Сибирь.
Красноярский край, дремучая тайга. «Интересы» художницы снова, мало сказать, разнообразны: непосильная работа на лесоповале, уборщица, санитарка, маляр на барже.
В письмах она просит дочь и мать, оставшихся в Москве, прислать ей краски и кисти. И тогда она сможет делать красивые веера, цветы на абажуры и расписывать коврики на стенку. Особенно с лебедями. Ей нравится больше злой тигр, но он не пользуется успехом.
В 54-м место ссылки изменено на Караганду. И здесь она уже работает художником-декоратором в Казахском драматическом театре.
В 1953 году умирает Сталин, и в 56-м году, после исторического (действительно исторического!) съезда, Ева Павловна возвращается в Москву.
* * *
У Левиной-Розенгольц и до ареста были интересные работы. Ее дипломная работа во ВХУТЕМАСе «Старики» (за которую она получила звание художника первой степени с правом продолжать учебу за границей) выставлялась дважды. Второй раз — в 1946 году в Москве, в Доме ученых, под названием «Евреи».

Дочь Евы Павловны вспоминает:
«В 1949 году, когда маму арестовали, во время обыска все картины снесли в ее комнату, которую закрыли и опечатали… Спустя почти год, в то время, когда я была на студенческой практике, квартиру взломали и мамину комнату заселили. Большинство рисунков (пастель, акварель, уголь) сожгли в котельной нашего дома на глазах жильцов. А из картин маслом, если судить по описи, ныне не хватает четырех. Куда они девались — не известно. Мне удалось забрать одну-единственную картину, а именно “Стариков”».
(Левина Е. Б. «Из воспоминаний дочери».)
Работа «Кухарки». Холст находится в Историко-архитектурном и художественном музее, в одном из зданий Новоиерусалимского монастыря… «Маруся» — холст в Государственной Третьяковской галерее…
Конечно, эти работы говорят о таланте живописца. И — все. Не больше.
«Большее» начинается по возвращении из ссылки в Москву. Когда наступает непреодолимая потребность графического осмысления страха, ужаса, боли, страдания, виденного и пережитого не только в собственной жизни. В результате этого осмысления и рождается уникальный, ни на кого не похожий художник Левина-Розенгольц.
Может быть, она и выжила-то только потому, что, когда в полном отчаянии от всех невзгод посмотрела вокруг себя, увидела могучую силу природы, земли, натуры.
Искусствовед Елена Мурина, друг Евы Павловны, пишет:
«Она вспоминала, как, будучи в сибирской ссылке, в момент смертельной тоски и предельного отчаяния вышла на берег Енисея. И, вопреки всему, зрелище величественной реки отвлекло ее от мыслей о смерти. Неожиданно для себя она испытала почти радостный подъем чувств, неодолимое желание излить это новое ощущение своего единства с природой — мирозданием. Это был незабываемый момент. В тот же миг, схватив первую попавшуюся палку, она стала прямо на песке рисовать. С того дня это спасительное занятие вернуло ей волю к жизни».
(Мурина Е. Б. «Набросок к портрету».)

Всматриваясь в работы «послессыльного» периода, выполненные на простой бумаге, тушью, пером, ты начинаешь чувствовать, что это хлынул поток, наводнение. Одна работа пишется за другой. Рождается цикл. Цикл не избавляет художника от боли и возникает второй, третий, шестой, десятый. И так все двадцать лет, до самой смерти…
Начинаются циклы с пейзажей, с деревьев. Вдова Фалька вспоминает, что, когда ее муж увидел эти рисунки, он пришел потрясенный: «…Эти ритмы такие выразительные. Один и тот же лес то кричит, то воет, то погибает, то проклинает».
МАЛЕНЬКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
Я всегда, с самого раннего детства ощущала дерево живым существом. И однажды, когда увидела, как в нашем дворе мальчишка, гораздо старше меня, отломал от тополя большую ветку, я разревелась и полезла с ним драться.
А уже в зрелом возрасте за то же самое сильно ударила своего единственного и безмерно любимого внука.
Я всегда понимала, что я счастливее дерева. Я могу передвигаться, а оно — нет. Поэтому оно беззащитнее меня. И от этого мне было больно. Какое-то облегчение я почувствовала, а главное — очень обрадовалась, узнав, что у евреев есть Новый год деревьев.
* * *
За циклом «Деревья» пошли «Болота», «Камыши». В начале 60-х Ева Павловна начинает писать «Небо». Мои соплеменники поют: «Дывлюсь я на нэбо, тай думку гадаю…» Ева Павловна гадала свою думку двадцать лет. «Небом» и закончился жизненный путь художника.

Еще до «Неба» появились рисунки из серии «Люди», которую М. Алпатов назвал «рембрандтовской». Появились «Портреты», «Фрески», «Пластические композиции». О них Е. Мурина пишет:
«Соотнесенность этих работ с невиданным доселе разгулом зла — будь то Гулаг или печи Освенцима — не вызывала сомнений, хотя сгущенная метафоричность их языка была бесконечно далека от прямой апелляции к чудовищным фактам».
Герои этих циклов — группы людей. Но они не похожи на конкретных, принадлежащих определенному времени человеческих особей. Их тела кажутся бескостными. Их руки скорее хочется назвать листами. Эти группы не стоят. Они в каком-то овально-сферическом движении. Смотришь на них и начинаешь думать о Вселенной, о Библии, о тысячелетнем страдании еврейского народа.
Сразу после революции, в 20-е и даже 30-е годы художница была захвачена духом равенства, которое, как ей казалось, принесла революция. Отсюда ее мечты о театре, где актер и зритель равны. Отсюда ее активное участие в Обществе художников-общественников (просуществовавшем очень недолго, всего два года). Общество ставило задачу «… достигнуть живого общения через художественное произведение с организованными массами трудящихся».
Что революция разрушила, сломала, заменила меру ценностей, что жизнь одного человека, сам человек перестал быть этой мерой, что «Я» превратилось в «Мы», а люди превратились в «трудящиеся массы», — это все Левина-Розенгольц не только поняла, но и испытала в своей жизни гораздо позже, в 50-е годы. И иносказательно и выразила в циклах, посвященных людям. Поэтому даже в цикле «Портреты», в котором по данности, по сути названия должны быть изображены личности, — личностей нет. Есть только высвеченный кусочек массы.
Казалось бы, мир страдания и боли, мир — проклятое место, где человек перестал быть человеком, а есть только часть толпы, массы, не совместим с гармонией. Но гармония — божество, без которого художник не живет. И поэтому от пастелей Евы Павловны глаз не оторвешь. «Болота», «Деревья», «Небо» очаровывают, завораживают, околдовывают.
Роберт Рафаилович Фальк почти перед самой смертью, посмотрев рисунок своей ученицы Евы Левиной-Розенгольц из цикла «Люди», сказал:
— Замечательно! Работайте, продолжайте в этом духе, потому что вы делаете что-то очень большое, очень нужное в общечеловеческом смысле.
Вот такое чудо искусства я увидела в наше время, на окраине Москвы, в обыкновенной «хрущобе».
(Опубликовано в газете «Еврейское слово», № 86)

Татьяна Левина: «Почему Фальк?»

Ольга Бескина-Лабас: «На крышу Лабас брал с собой акварель»