Ушел из жизни многолетний автор «Лехаима» Матвей Гейзер. В память о Матвее Моисеевиче мы публикуем подборку его увлекательных статей, в разные годы выходивших на страницах нашего журнала.
ЗАМЕТКИ О Л.М.КВИТКО

Став мудрецом, ребенком оставался…
Лев Озеров
Мудрец из Голоскова
“Я родился в селе Голоскове Подольской губернии… Отец был переплетчиком, учителем. Семья бедствовала, и все дети в раннем возрасте вынуждены были уйти на заработки. Один брат стал красильщиком, другой грузчиком, две сестры портнихами, третья учительницей”. Так писал в своей автобиографии в октябре 1943 года еврейский поэт Лев Моисеевич Квитко.
Голод, нищета, туберкулез — этот безжалостный бич обитателей черты оседлости выпали на долю семьи Квитко. “Отец и мать, сестры и братья рано умерли от туберкулеза… С десяти лет стал на себя зарабатывать… был красильщиком, маляром, носильщиком, закройщиком, заготовщиком… В школе никогда не учился… Самоучкой научился читать и писать”. Но трудное детство не только не обозлило его, но и сделало мудрее, добрее. “Есть люди, которые излучают свет”, — писал о Квитко русский писатель Л. Пантелеев. Все, кто знал Льва Моисеевича, говорили, что от него исходят доброжелательность и жизнелюбие. Всем, кто встречался с ним, казалось, что он будет жить вечно. “Он непременно доживет до ста лет, — утверждал К. Чуковский. — Было даже странно представить себе, что он может когда-нибудь заболеть”.
15 мая 1952 года на суде, измученный допросами и пытками, он скажет о себе: “Жил я до революции жизнью битой бродячей собаки, грош цена была этой жизни. Начиная с Великого Октября, я прожил тридцать лет чудесной окрыленной трудовой жизни”. И тут же вскоре после этой фразы: “Конец моей жизни — тут перед вами!”
Стихи, по собственному признанию, Лев Квитко начал сочинять в пору, когда еще не умел писать. Придуманное в детстве оставалось в памяти и позже “вылилось” на бумагу, вошло в первый сборник его стихов для детей, появившийся в 1917 году. “Лиделах” (“Песенки”) называлась эта книга. Сколько лет было тогда молодому автору? “Точной даты моего рождения я не знаю — 1890 или 1893″…

Как и многие другие недавние обитатели черты оседлости, Лев Квитко с восторгом встретил октябрьскую революцию. В ранних его стихах улавливается некая тревога, но верный традициям революционного поэта-романтика Ошера Шварцмана, он воспевает революцию. Его поэма “Ройтер штурм” (“Красная буря”) стала первым произведением на идише о революции, названной Великой. Так случилось, что выход первой его книги совпал с революцией. «Революция вырвала меня из беспросветности, подобно многим миллионам людей, и поставила на ноги. Меня стали печатать в газетах, сборниках, и мои первые стихи, посвященные революции, были напечатаны в тогдашней большевистской газете “Комфон” в Киеве».
Об этом он пишет в своих стихах:
Мы детства не видели в детские годы,
По свету бродили мы, дети невзгоды.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А нынче мы слышим бесценное слово:
Придите, чье детство украли враги,
Кто был обездолен, забыт, обворован,
С лихвою вам жизнь возвращает долги.
Одно из лучших стихотворений Квитко, написанное в тот же период, хранит в себе вечную еврейскую печаль:
Умчался ты утром рано,
И только в листве каштана
Трепещет стремительный бег.
Умчался, оставив немного:
Лишь пыли дымок у порога,
Покинутого навек.
. . . . . . . . . . . . . . .
А вечер навстречу мчится.
Где ты замедлишь бег?
В чьи двери ездок постучится,
И кто ему даст ночлег?
Знает ли он, как тоскуют по нем —
Я, мой дом!
Перевод Т. Спендиаровой
Вспоминая первые послереволюционные годы, Лев Моисеевич признавался, что революцию он воспринял скорее интуитивно, чем сознательно, но она многое изменила в его жизни. В 1921 году ему, как и некоторым другим еврейским писателям (А. Бергельсону, Д. Гофштейну, П. Маркишу), Киевское издательство предложило выехать за границу, в Германию, — учиться, получить образование. Это было давней мечтой Квитко, и, конечно, он согласился.
Иезуиты с Лубянки спустя много лет выбили по этому поводу из Квитко совсем другое признание: отъезд в Германию они заставили его признать бегством из страны, так как “национальный вопрос в отношении евреев разрешался советским правительством неправильно. Евреи не признавались как нация, что, на мой взгляд, вело к лишению всякой самостоятельности и ущемляло законные права по сравнению с другими национальностями”.
Жизнь за границей оказалась далеко не простой. “В Берлине я с трудом перебивался”… Тем не менее там, в Берлине, было издано два его сборника стихов — “Зеленая трава” и “1919”. Второй был посвящен памяти тех, кто погиб в погромах на Украине до и после революции.
“В начале 1923 года я переехал в Гамбург и стал работать в порту при солении и сортировке южноамериканских кож для Советского Союза, — писал он в своей автобиографии. — Там же, в Гамбурге, мне была доверена ответственная советская работа, которую я исполнял вплоть до моего возвращения на родину в 1925 году”.
Речь идет о пропагандистской работе, которую он вел среди немецких рабочих как член коммунистической партии Германии. Уехал он оттуда, вероятнее всего, из-за угрозы ареста.

Л. Квитко и И. Рыбак. Берлин, 1922 год
На суде в 1952 году Квитко расскажет, как из гамбургского порта под видом посуды отправлялось оружие в Китай для Чан Кайши.
Второй раз в коммунистическую партию, ВКП(б), поэт вступил в 1940 году. Но это уже другая партия и другая, совсем другая история…
Вернувшись на родину, Лев Квитко занялся литературной работой. В конце 20-х — начале 30-х годов созданы его лучшие произведения, не только поэтические, но и в прозе, в частности повесть “Лям и Петрик”.
К тому времени он уже стал поэтом не только любимым, но и общепризнанным. На украинский язык его переводили поэты Павло Тычина, Максим Рыльский, Владимир Сосюра. На русский в разные годы его переводили А.Ахматова, С.Маршак, К.Чуковский, Я.Хелемский, М.Светлов, Б.Слуцкий, С.Михалков, Н.Найденова, Е.Благинина, Н. Ушаков. Переводили так, что стихи его стали явлением русской поэзии.
В 1936 году С.Маршак писал К. Чуковскому о Л. Квитко: «Хорошо, если бы Вы, Корней Иванович, что-нибудь перевели (например “Анну-Ванну…”)». Перевел же ее некоторое время спустя С. Михалков, и благодаря ему это стихотворение вошло в хрестоматию всемирной детской литературы.
Здесь уместно вспомнить о том, что 2 июля 1952 года, за несколько дней до вынесения ему приговора, Лев Моисеевич Квитко обратился в военную коллегию Верховного суда СССР с просьбой пригласить на суд в качестве свидетелей, которые могут рассказать о нем истинную правду, К.И.Чуковского, К.Ф.Пискунова, П.Г.Тычину, С.В. Михалкова.Суд ходатайство отклонил и, конечно, не довел его до сведения друзей Квитко, в поддержку которых он верил до последней минуты.
Недавно в телефонном разговоре со мной Сергей Владимирович Михалков сказал, что ничего об этом не знал. “А ведь он мог бы жить еще и сегодня, — добавил он. — Умный и хороший был поэт. Фантазией, весельем, выдумкой он вовлекал в свою поэзию не только детей, но и взрослых. Я часто вспоминаю его, думаю о нем”.
…Из Германии Лев Квитко вернулся на Украину, а позже, в 1937 году, переехал в Москву. Рассказывают, что украинские поэты, особенно Павло Григорьевич Тычина, уговаривали Квитко не уезжать. В год приезда в Москву вышел поэтический поэта сборник поэта “Избранные сочинения”, явивший собой образец соцреализма. В сборнике, разумеется, были и прекрасные лирические детские стихи, но “дань времени” (напомним, год на дворе стоял 1937-й), нашла в нем “достойное отражение”.
Примерно в это же время Квитко пишет свое знаменитое стихотворение “Пушкин и Гейне”. Отрывок из него в переводе С. Михалкова приведен ниже:
И вижу я младое племя
И мыслей дерзостный полет.
Как никогда мой стих живет.
Благословенно это время
И ты, свободный мой народ!..
В застенках не сгноить свободу,
Не превратить народ в раба!
Меня домой зовет борьба!
Я ухожу, судьба народа —
Певца народного судьба!
Незадолго до Отечественной войны Квитко закончил роман в стихах “Годы молодые”, в начале войны он эвакуировался в Алма-Ату. В его автобиографии написано: “Я уехал с Кукрыниксы. Мы отправились в Алма-Ату с той целью, чтобы там создать новую книжку, которая соответствовала бы тому времени. Там ничего не получалось… Я пошел на мобилизационный пункт, меня освидетельствовали и оставили ждать…”

Л. Квитко с женой и дочерью. Берлин, 1924 год
Одну из интересных страниц воспоминаний о пребывании Л.Квитко в Чистополе во время войны оставила в своих дневниках Лидия Корнеевна Чуковская:
“Приходит ко мне Квитко… Квитко я знаю ближе, чем остальных здешних москвичей: он друг моего отца. Корней Иванович одним из первых заметил и полюбил стихи Квиткодля детей, добился перевода их с идиша на русский язык… Теперь два-три дня пробыл в Чистополе: здесь его жена и дочь. Ко мне пришел накануне отъезда, расспросить подробнее, что передать от меня отцу, если они где-нибудь встретятся…
О Цветаевой, о безобразии, творимом литфондом, заговорила. Ведь не ссыльная же она, а такая же эвакуированная, как все мы, почему же ей не разрешают жить, где ей хочется…”
Об издевательствах, мытарствах, которые довелось пережить Марине Ивановне в Чистополе, об унижениях, выпавших на ее долю, о постыдном, непростительном безразличии к судьбе Цветаевой со стороны “писательских вождей”, — обо всем, что привело Марину Ивановну к самоубийству, нам сегодня известно достаточно много. Никто из писателей, кроме Льва Квитко, не решился, не отважился заступиться за Цветаеву. После обращения к нему Лидии Чуковской он отправился к Николаю Асееву. Обещал связаться с остальными “писательскими функционерами” и заверил со свойственным ему оптимизмом: “Все будет хорошо. Сейчас самое главное — каждый человек должен конкретно помнить: все кончается хорошо”. Так говорил в самые трудные времена этот добрый, отзывчивый человек. Он и утешал, и помогал всем, кто к нему обращался.
Еще одно свидетельство этому — воспоминания поэтессы Елены Благининой: “Война всех раскидывала в разные стороны… В Куйбышеве жил, терпя изрядные бедствия, мой муж — Егор Николаевич. Они изредка встречались, и, по словам мужа моего, Лев Моисеевич помогал ему, иногда давая работу, а то и просто делясь куском хлеба…”
И снова к теме “Цветаева—Квитко“.
По мнению Лидии Борисовны Либединской, единственным из видных писателей, кто тогда в Чистополе беспокоился о судьбе Марины Цветаевой, был Квитко. И его хлопоты не были пустыми, хотя Асеев даже не пришел на заседание комиссии, рассматривавшей просьбу Цветаевой принять ее на работу посудомойкой в писательскую столовую. Асеев “заболел”, Тренев (автор небезызвестной пьесы “Любовь Яровая”) был категорически против. Допускаю, что имя Цветаевой Лев Моисеевич услышал от Лидии Чуковской впервые, но желание помочь, защитить человека, было его органическим качеством.
…Итак, “идет война народная”. Жизнь стала совсем иной и стихи — другими, непохожими на те, что писал Квитко в мирное время, и все же — о детях, ставших жертвами фашизма:
Вот из лесов, оттуда, где в кустах
Смеется ветер голосом безумным, —
Идут, сомкнув голодные уста,
Дети из Умани…
Лица — сень желтизны.
Руки — кости да жилы.
Шести-семилетние старцы,
Убежавшие из могилы.
Перевод Л. Озерова
В действующую армию Квитко, как было сказано, не взяли, его вызвали в Куйбышев для работы в Еврейском антифашистском комитете. По-видимому, это была трагическая случайность. В отличие от Ицика Фефера, Переца Маркиша, да и Михоэлса, Квитко был далек от политики. “Я, слава Б-гу, не пишу пьес, и меня сам Б-г охранял от связи с театром и Михоэлсом”, — заявит он на суде. И на допросе, рассказывая о работе ЕАК: “Михоэлс больше всего пьянствовал. Практически работу вели Эпштейн и Фефер, хотя последний не был членом Еврейского антифашистского комитета”. И дальше он даст поразительно точное определение сути И. Фефера: “он такой человек, что если будет назначен даже курьером, .. фактически станет хозяином… Фефер ставил на обсуждение президиума только те вопросы, которые ему были выгодны…”
Известны выступления Квитко на заседаниях ЕАК, одно из них, на III пленуме, содержит такие слова: “День гибели фашизма станет праздником для всего свободолюбивого человечества”. Но и в этом выступлении главная мысль — о детях: “Неслыханные пытки и истребление наших детей — таковы методы воспитания, выработанные в немецких штабах. Детоубийство как будничное, повседневное явление — таков изуверский план, который осуществляли немцы на временно захваченной ими советской территории… Еврейских детей немцы истребляют до единого…” Квитко волнует судьба детей еврейских, русских, украинских: “Вернуть всем детям их детство — огромный подвиг, совершаемый Красной Армией”.

Л. Квитко выступает на III пленуме ЕАК
И все же работа в ЕАК, занятия политикой — не удел поэта Льва Квитко. Он вернулся к делам писательским. В 1946 году Квитко был избран председателем профкома юношеских и детских писателей. Все соприкоснувшиеся с ним в то время вспоминают, с каким желанием, энтузиазмом он помогал писателям, вернувшимся с войны, и семьям писателей, погибших на этой войне. Он мечтал издать детские книжки, а на деньги, полученные от их издания, построить дом для писателей, оказавшихся без жилья вследствие войны.
О Квитко того времени Корней Иванович пишет: “В эти послевоенные годы мы часто встречались. У него был талант бескорыстной поэтической дружбы. Его всегда окружала крепко сплоченная когорта друзей, и я с гордостью вспоминаю, что в эту когорту он включил и меня”.
Уже седой, постаревший, но по-прежнему ясноглазый и благостный, Квитко вернулся к своим излюбленным темам и в новых стихах стал по-прежнему славить и весенние ливни, и утренние щебеты птиц.
Следует подчеркнуть, что ни безотрадное нищенское детство, ни полная тревог и трудностей юность, ни трагические годы войны не смогли уничтожить восхитительное отношение к жизни, оптимизм, ниспосланные Квитко Небесами. Но прав был Корней Иванович Чуковский, когда говорил: “Иногда Квитко и сам сознавал, что его детская влюбленность в окружающий мир слишком уж далеко уводит его от мучительной и жестокой действительности, и пытался обуздать свои дифирамбы и оды добродушной иронией над ними, представить их в юмористическом виде”.
Если об оптимизме Квитко можно рассуждать, даже спорить, то чувство патриотизма, того истинного, не наигранного, не лживого, а высокого патриотизма, было не только присуще ему, но в значительной мере являлось сутью поэта и человека Квитко. Слова эти в подтверждении не нуждаются, и все же представляется целесообразным привести полный текст написанного им в 1946 году стихотворения “С моей страной”, замечательный перевод которого сделан Анной Андреевной Ахматовой:
Кто смеет отделять народ мой от страны,
В том крови нет — подменена водой.
Кто отделяет стих мой от страны,
Тот будет сыт и скорлупой пустой.
С тобой, страна, велик народ.
Ликуют все — и мать и дети,
А без тебя — во мгле народ,
Рыдают все — и мать и дети.
Народ, трудящийся для счастия страны,
Дает моим стихам оправу.
Мой стих — оружие, мой стих — слуга страны,
И только ей принадлежит по праву.
Без Родины умрет мой стих,
Чужой и матери, и детям.
С тобой, страна, живуч мой стих,
И мать его читает детям.
Пройдет несколько лет, и автора этого стихотворения обвинят в измене родине, в предательстве, шпионаже…
Год 1947, равно как и 1946-й, казалось, не сулил евреям СССР ничего плохого. В ГОСЕТе шли новые спектакли, и хотя зрителей становилось все меньше, театр существовал, выходила газета на идише. Тогда, в 1947-м, немногие евреи верили (или боялись верить) в возможность возрождения Государства Израиль. Иные продолжали фантазировать, что будущее евреев в создании еврейской автономии в Крыму, не догадываясь и не предполагая, какая трагедия уже вьется вокруг этой идеи…
Лев Квитко был истинным поэтом, и не случайно сказала о нем его друг и переводчик Елена Благинина: “Он живет в волшебном мире волшебных превращений. Лев Квитко — поэт-дитя”. Только такой наивный человек мог за несколько недель до ареста написать:
Как не работать этими
руками,
Когда ладони чешутся, горят.
Как сильная струя
уносит камень,
Волна работы унесет
усталость
И дальше мчит,
как водопад трубя!
Страна,
благословенная трудом,
Как хорошо работать для тебя!
Перевод Б.Слуцкого
20 ноября 1948 года вышло Постановление Политбюро ЦК ВКП(б), утвердившее решение Совета Министров СССР, согласно которому МГБ СССР поручено: “Не медля распустить Еврейский антифашистский комитет, так как этот Комитет является центром антисоветской пропаганды и регулярно поставляет антисоветскую информацию органам иностранной разведки”. Есть в этом постановлении указание: “Пока никого не арестовывать”. Но к тому времени арестованные уже были. Среди них поэт Давид Гофштейн. В декабре того же года арестовали Ицика Фефера, а несколькими днями позже из Боткинской больницы на Лубянку привезли тяжело больного Вениамина Зускина. Такова была обстановка в канун нового, 1949 года.
Вспоминается рассказ Валентина Дмитриевича Берестова: «Страх витал в семьях московской интеллигенции, не только еврейских. Одним раздавали Сталинские премии, других — сажали. И распределение это делалось по усмотрению, ведомому только одному человеку. Помню, в декабре 1948 года я был у Корнея Ивановича. Почему-то разговор зашел о Квитко. Корней Иванович передал мне от него привет, сказал, что стихи мои очень пришлись по душе Квитко. А потом вдруг как-то неожиданно добавил: “Близится юбилей Квитко, но настроение у него не совсем предъюбилейное. Вот написал ему новогоднее поздравление”».
Валентин Дмитриевич прочел стихи Чуковского по памяти, предупредив, что за точность не ручается, но суть сохранена:
Как бы был я богат,
Если б деньги платил Детиздат.
Я послал бы друзьям
Миллион телеграмм,
Но теперь разорен я до нитки —
Детиздат лишь приносит убытки,
И приходится, милые Квитки,
Поздравленья послать Вам в открытке.
Каким бы ни было настроение, в январе 1949 года, как пишет в своих воспоминаниях Елена Благинина, в Центральном Доме литераторов праздновалось 60-летие Квитко. Почему в 49-м 60-летие? Напомним, что точно года своего рождения не знал и сам Лев Моисеевич. “Гости собрались в Дубовом зале клуба писателей. Народу пришло много, юбиляра приветствовали сердечно, но он казался (не казался, а был) озабоченным и грустным”, — пишет Елена Благинина. Председательствовал на вечере Валентин Катаев.
Немногие из тех, кто был на этом вечере, сегодня живы. Но мне повезло — я встретился с Семеном Григорьевичем Симкиным. В ту пору он был студентом театрального техникума при ГОСЕТе. Вот что он рассказал: “Дубовый зал ЦДЛ был переполнен. Вся писательская элита того времени — Фадеев, Маршак, Симонов, Катаев — не только удостоили юбиляра чести своими приветствиями, но и говорили о нем самые теплые слова. Что запомнилось больше всего — это выступление Корнея Ивановича Чуковского. Мало того, что он сказал о Квитко как об одном из лучших поэтов современности, так он еще прочел в оригинале, то есть на идише, несколько стихов Квитко, среди них “Анна-Ванна”.

Л. Квитко. Москва, 1944 год
22 января Квитко арестовали. “Идут. Неужели?.. /Это ошибка. /Но от ареста, увы, не спасает/ Уверенность в невиновности,/ И чистота помыслов и поступков/ Не аргумент в эпоху бесправья./ Простодушие заодно с мудростью/ Неубедительны ни для следователя,/ Ни для палача” (Лев Озеров). Если бы этим днем, днем 22 января, можно было закончить жизнеописание поэта Льва Квитко, какое бы это было счастье и для него, и для меня, пишущего эти строки. Но с этого дня начинается самая трагическая часть жизни поэта, и длилась она почти 1300 дней.
В застенках Лубянки
(Глава почти документальная)
Из протокола закрытого судебного заседания Военной коллегии Верховного суда СССР.
Заседание первое. 8 мая 1952 года, 12-00.
Секретарь суда — старший лейтенант М. Афанасьев сообщил, что все обвиняемые доставлены в судебное заседание под конвоем.
Председательствующий — генерал-лейтенант юстиции А. Чепцов удостоверяется в самоличности подсудимых, и каждый из них рассказывает о себе.
Из показаний Квитко: “Я, Квитко Лейб Моисеевич, 1890 года рождения, уроженец села Голосково Одесской области, по национальности еврей, в партии состоял с 1941 года, до этого ранее ни в каких партиях не был (как известно, Квитко состоял до этого в коммунистической партии Германии. — М.Г.). Профессия — поэт, семейное положение — женат, имею совершеннолетнюю дочь, образование домашнее. Имею награды: орден Трудового Красного Знамени и медаль “За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941—1945 гг.” Арестован 25 января 1949 года (в большинстве источников 22 января. — М.Г.). Копию обвинительного заключения получил 3 мая 1952 года”.
После оглашения обвинительного заключения пред-седательствующий выясняет, понятна ли каждому из подсудимых его вина. Ответ “Понятна” произнесли все. Некоторые признали себя виновными (Фефер, Теумин), иные — полностью отвергали обвинение (Лозовский, Маркиш, Шимелиович. Доктор Шимелиович воскликнет: “Никогда не признавал и не признаю!”). Были такие, кто признавал свою вину частично. Среди них — Квитко.
Из допроса подсудимого Квитко. Допрос начался 15 мая 1952 года в 20 часов 45 минут.
Пред[седательствую]щий: Подсудимый Квитко, в чем вы признает себя виновным?
Квитко: Я признаю себя виновным перед партией и перед советским народом в том, что я работал в Комитете, который принес много зла Родине. Я еще признаю себя виновным в том, что, будучи некоторое время после войны ответственным секретарем или руководителем еврейской секции Союза советских писателей, я не ставил вопрос о закрытии этой секции, не ставил вопрос о способствовании ускорению процесса ассимиляции евреев.
Пред[седательствую]щий: Вину в том, что вы в прошлом вели националистическую деятельность, вы отрицаете?
Квитко: Да. Я это отрицаю. Я не чувствую за собой этой вины. Я чувствую, что я всей душой и всеми своими помыслами желал счастья земле, на которой я родился, которую я считаю своей родиной, несмотря на все эти материалы дела и показания обо мне… Мои мотивы должны быть выслушаны, так как я их буду подтверждать фактами.
Пред[седательствую]щий: Мы уже здесь слыхали, что ваша литературная деятельность была посвящена целиком партии.
Квитко: Если бы мне только дали возможность спокойно отразить все те факты, которые имели место в моей жизни и которые меня оправдывают. Я уверен, что если бы здесь имелся человек, который хорошо умел бы читать мысли и чувства, он бы сказал правду обо мне. Я всю жизнь считал себя советским человеком, больше того, пусть это звучит нескромно, но это так — я всегда был влюблен в партию.
Пред[седательствую]щий: Все это расходится с вашими показаниями на следствии. Вы себя считаете влюбленным в партию, но зачем же тогда утверждаете ложь. Вы себя считаете честным писателем, а были настроены далеко не так, как говорите.
Квитко: Я говорю, что партии не нужна моя ложь, и я показываю только то, что можно подтвердить фактами. На следствии все мои показанию искажались, и все показывалось наоборот. Это относится и к моей поездке за границу, будто она была с вредной целью, и это в такой же мере относится к тому, что я пролез в партию. Возьмите мои стихи 1920—1921 гг. Эти стихи собраны в папке у следователя. Они говорят совсем о другом. Мои произведения, напечатанные в 1919—1921 гг., были опубликованы в коммунистической газете. Когда я об этом говорил следователю, он мне отвечал: “Это нам не нужно”.
Пред[седательствую]щий: Короче говоря, вы отрицаете эти показания. Зачем вы лгали?
Квитко: Мне было очень трудно воевать со следователем…
Пред[седательствую]щий: А почему вы подписали протокол?
Квитко: Потому что трудно было не подписывать его.
Подсудимый Б.А. Шимелиович, бывший главный врач Боткинской больницы, заявил: “Протокол… подписан мною… при неясном сознании. Такое состояние мое является результатом методического избиения в течение месяца ежедневно днем и ночью…”
Очевидно, что истязали на Лубянке не только Шимелиовича.
Но вернемся к допросу Квитко в тот день:
Пред[седательствую]щий: Значит, вы отрицаете свои показания?
Квитко: Абсолютно отрицаю…
Как здесь не вспомнить слова Анны Ахматовой? “Кто не жил в эпоху террора, тот этого никогда не поймет”…
Председательствующий возвращается к причинам “бегства” Квитко за границу.
Пред[седательствую]щий: Покажите мотивы бегства.
Квитко: Я не знаю, как сказать, чтобы вы мне поверили. Если религиозный преступник стоит перед судом и считает себя неправильно осужденным или неправильно виновным, он думает: хорошо, мне не верят, я осужден, но хоть Б-г знает правду. У меня бога, конечно, нет, и я никогда не верил в бога. У меня есть единственный бог — власть большевиков, это мой бог. И я перед этой верой говорю, что я в детстве и юности делал самую тяжелую работу. Какую работу? Я не хочу сказать, что я делал 12-летним. Но самая тяжелая работа — это находиться перед судом. Я вам расскажу о бегстве, о причинах, но дайте мне возможность рассказать.
Я сижу два года один в камере, это по моему собственному желанию, и для этого у меня есть причина. У меня нет живой души, чтобы с кем-нибудь посоветоваться, нет более опытного человека в делах судебных. Я один, сам с собой размышляю и переживаю…
Чуть позже Квитко продолжит свои показания по вопросу “бегства”:
Допускаю, что вы мне не верите, но фактическое положение вещей опровергает вышеприведенный националистический мотив выезда. Тогда в Советском Союзе создавалось много еврейских школ, детдомов, хоры, учреждения, газеты, издания и вся институция “Культур-Лиги” обильно материально снабжалась советской властью. Учреждались новые очаги культуры. Зачем же мне нужно было уезжать? И не в Польшу я поехал, где тогда процветал махровый еврейский национализм, и не в Америку, где живет много евреев, а я уехал в Германию, где не было ни еврейских школ, ни газет и ничего другого. Так что этот мотив лишен всякого смысла… Если бы я бежал от родной советской земли, мог бы я написать тогда “На чужбине” — стихи, которые проклинают бурный застой жизни, стихи глубокой тоски по родине, по ее звездам и по ее делам? Не будь я советским человеком, хватило бы мне силы бороться с вредительством на работе в гамбургском порту, подвергаться издевкам и ругани “честных дядюшек”, которые маскировались благодушием и моралью, прикрывая хищников? Если бы я не был преданным делу партии, мог бы я взять на себя добровольно секретную нагрузку, связанную с опасностями и преследованием? Без вознаграждения, после тяжелого малооплаченного трудового дня я выполнял задания, нужные советскому народу. Это только часть фактов, часть вещественных доказательств моей деятельности с первых лет революции до 1925 года, т.е. до тех пор, когда я вернулся в СССР.
Председательствующий не раз возвращался к вопросу антиассимиляционной деятельности ЕАК. (“Обвиняется кровь” — назовет свою выдающуюся книгу об этом процессе Александр Михайлович Борщаговский и, быть может, даст самое точное определение всему, что происходило на этом судилище.) Относительно ассимиляции и антиассимиляции дает показания Квитко:
В чем же я себя обвиняю? В чем я чувствую себя виновным? Первое — в том, что я не видел и не понимал, что Комитет своей деятельностью приносит большой вред советскому государству, и в том, что и я также работал в этом Комитете. Второе, в чем я считаю себя виновным, это висит надо мной, и я чувствую, что это мое обвинение. Считая советскую еврейскую литературу идейно здоровой, советской, мы, еврейские писатели, и я в том числе (может быть, я больше их виноват), в то же время не ставили вопроса о способствовании процессу ассимиляции. Я говорю об ассимиляции еврейской массы. Продолжая писать по-еврейски, мы невольно стали тормозом для процесса ассимиляции еврейского населения. За последние годы еврейский язык перестал служить массам, так как они — массы — оставили этот язык, и он стал помехой. Будучи руководителем еврейской секции Союза советских писателей, я не ставил вопроса о закрытии секции. Это моя вина. Пользоваться языком, который массы оставили, который отжил свой век, который обособляет нас не только от всей большой жизни Советского Союза, но и от основной массы евреев, которые уже ассимилировались, пользоваться таким языком, по-моему, — своеобразное проявление национализма.
В остальном я не чувствую себя виновным.
Пред[седательствую]щий: Все?
Квитко: Все.
Из обвинительного приговора:
Подсудимый Квитко, возвратясь в СССР в 1925 году после бегства за границу, примкнул в гор. Харькове к националистической еврейской литературной группировке “Бой”, возглавлявшейся троцкистами.
Являясь в начале организации ЕАК заместителем ответственного секретаря Комитета, вошел в преступный сговор с националистами Михоэлсом, Эпштейном и Фефером, содействовал им в сборе материалов об экономике СССР для отсылки их в США.
В 1944 году, выполняя преступные указания руководства ЕАК, выезжал в Крым для сбора сведений об экономическом положении области и положении еврейского населения. Был одним из инициаторов постановки вопроса перед правительственными органами о якобы имеющей место дискриминации еврейского населения в Крыму.
Неоднократно выступал на заседаниях президиума ЕАК с требованием расширения националистической деятельности Комитета.
В 1946 году установил личную связь с американским разведчиком Гольдбергом, которого информировал о положении дел в Союзе советских писателей, и дал ему согласие на выпуск советско-американского литературного ежегодника.
Из последнего слова Квитко:
Гражданин председатель, граждане судьи!
Перед самой радостной аудиторией с пионерскими галстуками выступал я десятки лет и воспевал счастье быть советским человеком. Кончаю же я свою жизнь выступлением перед Верховным Судом Советского народа. Обвиняясь в тягчайших преступлениях.
Это выдуманное обвинение обрушилось на меня и причиняет мне страшные муки.
Почему каждое мое слово, сказанное здесь в суде, пропитано слезами?
Потому, что страшное обвинение в измене Родине невыносимо для меня — советского человека. Заявляю суду, что я ни в чем не виновен — ни в шпионаже, ни в национализме.
Пока мой ум еще не совсем помрачен, я считаю, что для обвинения в измене Родине надо совершить какой-то акт измены.
Я прошу суд учесть, что в обвинении нет документальных доказательств моей якобы враждебной деятельности против ВКП(б) и советского правительства и нет доказательств моей преступной связи с Михоэлсом и Фефером. Я не изменял Родине и ни одного из 5 предъявленных мне обвинений не признаю…
Мне легче быть в тюрьме на советской земле, чем на “свободе” в любой капиталистической стране.
Я — гражданин Советского Союза, моя Родина — Родина гениев партии и человечества Ленина и Сталина, и я считаю, что не могу быть обвинен в тяжких преступлениях без доказательств.
Надеюсь, что мои доводы будут восприняты судом как должно.
Прошу суд вернуть меня к честному труду великого советского народа.
Вердикт известен. Квитко, как и остальные подсудимые, кроме академика Лины Штерн, приговорен к ВМН (высшей мере наказания). Суд выносит решение лишить Квитковсех полученных им ранее правительственных наград. Приговор приводится в исполнение, но почему-то с нарушением традиций, существующих на Лубянке: вынесен он 18 июля, а приведен в исполнение 12 августа. Это еще одна из неразгаданных тайн этого чудовищного фарса.
Заканчивать этими словами статью о поэте Квитко не могу и не хочу. Верну читателя к лучшим дням и годам его жизни.

Л. Квитко. Москва, 1948 год
Чуковский—Квитко—Маршак
Вряд ли кто-то станет оспаривать мысль, что еврейский поэт Лев Квитко получил бы признание не только в Советском Союзе (его стихи переведены на русский и еще 34 языка народов СССР), но и во всем мире, не будь у него блестящих переводчиков его стихов. “Открыл” Квитко для русских читателей Корней Иванович Чуковский.
Свидетельств тому, как высоко ценил Чуковский поэзию Квитко, немало. В свою книгу “Современники (портреты и этюды)” Корней Иванович наряду с портретами таких выдающихся писателей, как Горький, Куприн, Леонид Андреев, Маяковский, Блок, поместил портрет Льва Квитко: “Вообще в те далекие годы, когда я познакомился с ним, он прямо-таки не умел быть несчастным: необыкновенно уютен и благостен был для него окружающий мир… Эта очарованность окружающим миром и сделала его детским писателем: от имени ребенка, под личиной ребенка, устами пятилетних, шестилетних, семилетних детей ему было легче всего изливать свое собственное бьющее через край жизнелюбие, свою собственную простосердечную веру, что жизнь создана для нескончаемой радости… Иной литератор, когда пишет стихи для детей, пытается реставрировать тускнеющей памятью свои давно забытые детские чувства. Льву Квитко такая реставрация была не нужна: между ним и его детством не существовало преграды времен. Он по прихоти в любую минуту мог превратиться в малыша-мальчугана, охваченного мальчишеским безоглядным азартом и счастьем…”
Любопытным было восхождение Чуковского к еврейскому языку. Состоялось оно благодаря Квитко. Получив стихи поэта на идише, Корней Иванович не сумел превозмочь желания прочесть их в оригинале. Дедуктивно, расшифровывая по буквам имя автора и подписи под картинками, он вскоре “пустился читать по складам заглавия отдельных стихов, а потом и сами стихи”… Чуковский сообщил об этом автору. “Когда я вам посылал свою книжку, — написал ему в ответ Квитко, — у меня было двойное чувство: желание быть прочитанным и понятным вами и досада, что книга останется для вас закрытой и недоступной. И вот вы неожиданно таким чудесным образом опрокинули мои ожидания и превратили мою досаду в радость”.
Корей Иванович, конечно, понимал, что ввести Квитко в большую литературу можно только путем организации хорошего перевода его стихов на русский язык Признанным мастером среди переводчиков в ту предвоенную пору был С.Я. Маршак. Чуковский обратился со стихами Квитко к Самуилу Яковлевичу не только как к хорошему переводчику, но и как к человеку, знавшему идиш. “Я сделал все, что мог, чтобы по моим переводам читатель, не знающий подлинника, узнал и полюбил стихи Квитко“, — писал Маршак Чуковскому 28 августа 1936 года.
Лев Квитко, безусловно, знал “цену” переводам Маршака. “Надеюсь с Вами скоро увидеться у нас в Киеве. Вы обязательно должны приехать. Вы нас обрадуете, много поможете в борьбе за качество, за расцвет детской литературы. Вас любят у нас”, — писал Л. Квитко Маршаку 4 января 1937 года.
Стихотворение Квитко “Письмо Ворошилову”, переведенное Маршаком, стало сверхпопулярным.
За три года (1936—1939) стихотворение было переведено уже с русского более чем на 15 языков народов СССР, печаталось в десятках изданий. «Дорогой Самуил Яковлевич! С Вашей легкой руки “Письмо Ворошилову” в Вашем мастерском переводе обошло всю страну…», — писал Лев Квитко 30 июня 1937 года.
История этого перевода такова.
В своем дневнике Корней Иванович 11 января 1936 года написал, что в тот день были у него Квитко и поэт-переводчик М.А. Фроман. Чуковский подумал, что никто лучше Фромана не переведет “Письмо Ворошилову”. Но произошло другое. 14 февраля 1936 года Чуковскому позвонил Маршак. Об этом Корней Иванович сообщает: «Оказывается, он недаром похитил у меня в Москве две книжки Квитко — на полчаса. Он увез эти книжки в Крым и там перевел их — в том числе “тов. Ворошилова”, хотя я просил его этого не делать, т.к. Фроман уже месяц сидит над этой работой — и для Фромана перевести это стихотворение — жизнь и смерть, а для Маршака — лишь лавр из тысячи. У меня от волнения до сих пор дрожат руки».
Тогда Льва Моисеевича с Самуилом Яковлевичем связывала в основном творческая дружба. Они, разумеется, встречались на совещаниях по вопросам детской литературы, на праздниках детской книги. Но главное, что сделал Маршак, — своими переводами он приобщил русского читателя к поэзии Квитко.
Квитко мечтал о сотрудничестве с Маршаком не только в области поэзии. Еще до войны он обратился к нему с предложением: “Дорогой Самуил Яковлевич, сборник народных еврейских сказок собираю, есть у меня уже немало. Если Вы не передумали, можем приступить к работе осенью. Жду Вашего ответа”. В архивах Маршака ответа на это письмо я не нашел. Известно лишь, что замысел Квитко остался неосуществленным.
Сохранились письма Самуила Яковлевича к Л.М.Квитко, преисполненные уважения и любви к еврейскому поэту.

Маршак перевел всего шесть стихотворений Квитко. Их настоящая дружба, человеческая и творческая, начала складываться в послевоенное время. Свое поздравление к 60-летию Маршака Квитко закончил совами: “Желаю т е б е (Выделено мной. — М.Г.) много лет здоровья, творческих сил на радость всем нам”. На “ты” Маршак позволял обращаться к себе очень немногим.
А еще об отношении Маршака к памяти Квитко: “Конечно, я сделаю все зависящее от меня для того, чтобы издательство и печать воздали должное такому замечательному поэту, как незабвенный Лев Моисеевич… Стихи Квитко будут еще долго жить и радовать настоящих ценителей поэзии… Надеюсь, что мне удастся… добиться, чтобы книги Льва Квитко занимали достойное место…” Это из письма Самуила Яковлевича к вдове поэта Берте Соломоновне.
В октябре 1960 года в Доме литератора состоялся вечер памяти Л. Квитко. Маршак по состоянию здоровья на вечере не присутствовал. До этого он отправил письмо вдове Квитко: “Я очень хочу быть на вечере, посвященном памяти моего дорогого друга и любимого поэта… А когда я поправлюсь (сейчас я очень слаб), я непременно напишу хоть несколько страничек о большом человеке, который был поэтом и в стихах, и в жизни”. Сделать это Маршак, увы, не успел…
Нет ничего случайного в том, что Чуковский “подарил” Квитко Маршаку. Можно, конечно, полагать, что рано или поздно Маршак и сам бы обратил внимание на стихи Квиткои, наверное, перевел бы их. Успех дуэта “Маршак—Квитко” определился еще и тем, что оба они были влюблены в детей; вероятно, поэтому столь удачными оказались переводы Маршака из Квитко. Впрочем, говорить только о “дуэте” — несправедливо: Чуковскому удалось создать трио детских поэтов.

Л. Квитко и С.Маршак. Москва, 1938 год
“Как-то в тридцатых года, — писал в своих воспоминаниях о Квитко К. Чуковский, — гуляя с ним по далеким окраинам Киева, мы неожиданно попали под дождь и увидели широкую лужу, к которой отовсюду сбегались мальчишки, словно то была не лужа, а лакомство. Они так ретиво зашлепали в луже босыми ногами, как будто нарочно старались измазаться до самых ушей.
Квитко глядел на них с завистью.
— Каждый ребенок, — сказал он, — считает, что лужи созданы специально для его удовольствия.
И я подумал, что, в сущности, он говорит о себе”.
Тогда, по-видимому, родились стихи:
Сколько грязи весенней,
Луж глубоких, хороших!
Как привольно тут шлепать
В башмаках и калошах!
С каждым утром все ближе
К нам весна подступает.
С каждым днем все сильнее
В лужах солнце сверкает.
Палку бросил я в лужу —
В водяное оконце;
Как стекло золотое,
Раскололось вдруг солнце!
* * *
Великая еврейская литература на идише, зародившаяся в России, литература, восходящая к Менделе-Мойхер Сфориму, Шолом-Алейхему и завершившая свое существование именами Давида Бергельсона, Переца Маркиша, Льва Квитко, погибла 12 августа 1952 года.
Пророческие слова произнес еврейский поэт Нахман Бялик: “Язык — это кристаллизованный дух”… Литература на идише погибла, но не канула в бездну — эхо ее, вечный отзвук ее будут жить, пока живы на земле евреи.
ПОЭЗИЯ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
В заключение дадим слово самой поэзии Л. Квитко, представим творчество поэта в “чистом виде”, без комментариев.
В переводах лучших русских поэтов оно стало неотъемлемой частью русской поэзии. Точно сказал о еврейском поэте замечательный писатель Рувим Фраерман: “Квитко был одним из лучших наших поэтов, гордостью и украшением советской литературы”.
Очевидно, что Квитко чрезвычайно повезло с переводчиками. В предлагаемой вниманию читателей подборке — стихи поэта в переводе С. Маршака, М. Светлова, С. Михалкова и Н. Найденовой. Первые два поэта знали идиш, а вот Сергей Михалков и Нина Найденова сотворили чудо: не зная родного языка поэта, они сумели передать не только содержание его стихов, но и авторские интонации.
Итак, стихи.

ЛОШАДКА
Не слышали ночью
За дверью колес,
Не знали, что папа
Лошадку привез,
Коня вороного
Под красным седлом.
Четыре подковы
Блестят серебром.
Неслышно по комнатам
Папа прошел,
Коня вороного
Поставил на стол.
Горит на столе
Одинокий огонь,
И смотрит в кроватку
Оседланный конь.
Но вот за окошками
Стало светлей,
И мальчик проснулся
В кроватке своей.
Проснулся, привстал,
Опершись на ладонь,
И видит: стоит
Замечательный конь.
Нарядный и новый,
Под красным седлом.
Четыре подковы
Блестят серебром.
Когда и откуда
Сюда он пришел?
И как ухитрился
Взобраться на стол?
На цыпочках мальчик
Подходит к столу,
И вот уже лошадь
Стоит на полу.
Он гладит ей гриву,
И спину, и грудь,
И на пол садится —
На ножки взглянуть.
Берет под уздцы —
И лошадка бежит.
Кладет ее на бок —
Лошадка лежит.
Глядит на лошадку
И думает он:
“Заснул я, должно быть,
И снится мне сон.
Откуда лошадка
Явилась ко мне?
Наверно, лошадку
Я вижу во сне…
Пойду я и маму
Свою разбужу.
И если проснется,
Коня покажу”.
Подходит он
к маме,
Толкает кровать,
Но мама устала —
Ей хочется спать.
“Пойду я к соседу
Петру Кузьмичу,
Пойду я к соседу
И в дверь постучу!”
— Откройте мне двери,
Впустите меня!
Я вам покажу
Вороного коня!
Сосед отвечает:
— Я видел его,
Давно уже видел
Коня твоего.
— Должно быть, ты видел
Другого коня.
Ты не был у нас
Со вчерашнего дня!
Сосед отвечает:
— Я видел его:
Четыре ноги
У коня твоего.
— Но ты же не видел,
Сосед, его ног,
Но ты же не видел
И видеть не мог!
Сосед отвечает:
— Я видел его:
Два глаза и хвост
У коня твоего.
— Но ты же не видел
Ни глаз, ни хвоста —
Стоит он за дверью,
А дверь заперта!..
Зевает лениво
За дверью сосед —
И больше ни слова,
Ни звука в ответ.

ЖУЧОК
Над городом ливень
Всю ночь напролет.
На улицах — реки,
Пруды — у ворот.
Трясутся деревья
Под частым дождем.
Промокли собаки
И просятся в дом.
Но вот через лужи,
Вертясь, как волчок,
Ползет неуклюжий
Рогатый жучок.
Вот падает навзничь,
Пытается встать.
Подрыгал ногами
И встал он опять.
До места сухого
Спешит доползти,
Но снова и снова
Вода на пути.
Плывет он по луже,
Не зная куда.
Несет его, кружит
И гонит вода.
Тяжелые капли
По панцирю бьют,
И хлещут, и валят,
И плыть не дают.
Вот-вот захлебнется —
Гуль-гуль! — и конец…
Но смело играет
Со смертью пловец!
Пропал бы навеки
Рогатый жучок,
Но тут подвернулся
Дубовый сучок.
Из рощи далекой
Приплыл он сюда —
Его принесла
Дождевая вода.
И, сделав на месте
Крутой поворот,
К жучку на подмогу
Он быстро идет.
Спешит ухватиться
Пловец за него,
Теперь не боится
Жучок ничего.
Плывет он в дубовом
Своем челноке
По бурной, глубокой,
Широкой реке.
Но вот приближаются
Дом и забор.
Жучок через щелку
Пробрался во двор.
А в доме жила
Небольшая семья.
Семья эта — папа
И мама, и я.
Жучка я поймал,
Посадил в коробок
И слушал, как трется
О стенки жучок.
Но кончился ливень,
Ушли облака.
И в сад на дорожку
Отнес я жука.

Квитко в переводе Михаила Светлова.
СКРИПКА
Я разломал коробочку,
Фанерный сундучок.
Совсем похож
на скрипочку
Коробочки бочок.
Я к веточке приладил
Четыре волоска —
Никто еще не видывал
Подобного смычка.
Приклеивал, настраивал,
Работал день-деньской…
Такая вышла скрипочка —
На свете нет такой!
В руках моих послушная,
Играет и поет…
И курочка задумалась
И зерен не клюет.
Играй, играй же,
скрипочка!
Трай-ля, трай-ля, трай-ли!
Звучит по саду музыка,
Теряется вдали.
И воробьи чирикают,
Кричат наперебой:
— Какое наслаждение
От музыки такой!
Задрал котенок голову,
Лошадки мчатся вскачь.
Откуда он? Откуда он,
Невиданный скрипач?
Трай-ля! Замолкла
скрипочка…
Четырнадцать цыплят,
Лошадки и воробушки
Меня благодарят.
Не сломал, не выпачкал,
Бережно несу,
Маленькую скрипочку
Спрячу я в лесу.
На высоком дереве,
Посреди ветвей,
Тихо дремлет музыка
В скрипочке моей.

КОГДА Я ВЫРАСТУ
Те лошадки шалые,
С влажными глазами,
С шеями, как дуги,
С крепкими зубами,
Те лошадки легкие,
Что стоят послушно
У своей кормушки
В светлой конюшне,
Те лошадки чуткие
До чего тревожны:
Только сядет муха —
Вздрагивает кожа.
Те лошадки быстрые,
С легкими ногами,
Только дверь раскроешь —
Скачут табунами,
Скачут, разбегаются
Безудержной прытью…
Тех лошадок легких
Не могу забыть я!
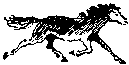
Тихие лошадки
Свой овес жевали,
Но, завидев конюха,
Радостно заржали.
Конюхи, конюхи,
С жесткими усами,
В пиджачишках ватных,
С теплыми руками!
Конюхи, конюхи
С выраженьем строгим
Выдают овес друзьям
Четвероногим.
Топчутся лошадки,
Веселы и сыты…
Конюхам нисколько
Не страшны копыта.
Ходят — не боятся,
Все им не опасно…
Этих самых конюхов
Я люблю ужасно!
А когда я вырасту, —
В длинных брюках, важно
К конюхам приду я
И скажу отважно:
— Пятеро детей у нас,
Всем работать хочется:
Есть поэт-братишка,
Есть сестричка-летчица,
Есть одна ткачиха,
Есть один учащийся…
Я же — самый младший —
Буду всадник мчащийся!
— Ну, веселый парень!
Откуда? Издалече?
А какие мускулы!
А какие плечи!
Ты из комсомолии?
Ты из пионерии?
Выбери ж коня себе,
Ступай в кавалерию!
Вот я мчусь, как ветер…
Мимо — сосны, клены…
Кто это навстречу?
Маршал Буденный!
Если я отличник,
Так ему скажу я:
“Скажите, в кавалерию
Зачислен быть могу я?”
Маршал улыбается,
Говорит с доверием:
“Подрастешь немного —
Зачислим в кавалерию!”
“Ах, товарищ маршал!
Ждать мне сколько
времени!..” —
“А ты стреляешь? Ты ногой
Достаешь до стремени?”
Я скачу назад, домой —
Ветер не угонится!
Я учусь, расту большой,
Я с Буденным быть хочу:
Буду я буденовцем!

Квитко в переводе Сергея Михалкова.
ВЕСЕЛЫЙ ЖУК
Он весел и счастлив
От пят до макушки —
Ему удалось
Убежать от лягушки.
Она не успела
Схватить за бока
И съесть под кустом
Золотого жука.
Бежит он сквозь чащу,
Поводит усами,
И чаща встречает
Его голосами.
Бежит он теперь
И знакомых встречает,
А маленьких гусениц
Не замечает.
Зеленые стебли,
Как сосны в лесу,
На крылья его
Осыпают росу.
Ему бы большую
Поймать на обед!
От маленьких гусениц
Сытости нет.
Он маленьких гусениц
Лапкой не тронет,
Он честь и солидность
Свою не уронит.
Ему после всех
Огорчений и бед
Всех больше добыча
Нужна на обед.
И вот наконец
Он встречает такую
И к ней подбегает,
От счастья ликуя.
Жирнее и лучше
Ему не найти.
Но страшно к такой
Одному подойти.
Он вертится,
Ей преграждая дорогу,
Жуков проходящих
Зовет на подмогу.
Борьба за добычу
Была нелегка:
Ее поделили
Четыре жука.
РАЗГОВОР
Дуб говорил:
— Я стар, я мудр,
я крепок, я красив!
Дуб из дубов —
я полон свежих сил.
Но все ж завидую
коню, который
По большаку несется
рысью спорой.
Конь говорил:
— Я быстр, я молод,
ловок и горяч!
Конь из коней —
люблю я мчаться вскачь.
Но все ж завидую
летящей птице —
Орлу иль даже
маленькой синице.
Орел сказал:
— Мой мир высок,
ветра подвластны мне,
Мое гнездо
на страшной крутизне.
Но что сравнится
с мощью человека,
Свободного и
мудрого от века!

Квитко в переводе Нины Найденовой.
ЛЕМЕЛЕ ХОЗЯЙНИЧАЕТ
Мама уходит,
Спешит в магазин.
— Лемеле, ты
Остаешься один.
Мама сказала:
— Ты мне услужи:
Вы
мой тарелки,
Сестру уложи.
Дрова наколоть
Не забудь, мой сынок,
Поймай петуха
И запри на замок.
Сестренка, тарелки,
Петух и дрова…
У Лемеле только
Одна голова!
Схватил он сестренку
И запер в сарай.
Сказал он сестренке:
— Ты здесь поиграй!
Дрова он усердно
Помыл кипятком,
Четыре тарелки
Разбил молотком.
Но долго пришлось
С петухом воевать —
Ему не хотелось
Ложиться в кровать.

СПОСОБНЫЙ МАЛЬЧИК
Лемеле однажды
Прибежал домой.
— Ой, — сказала мама, — Что это с тобой?
У тебя ведь до крови
Расцарапан лоб!
Ты своими драками
Вгонишь маму в гроб!
Отвечает Лемеле,
Шапку теребя:
— Это я нечаянно
Искусал себя.
— Вот способный мальчик!
— Удивилась мать. —
Как же ты зубами
Лоб сумел достать?
— Ну достал, как видишь, — Лемеле в ответ. —
Для такого случая
Влез на табурет!

(Опубликовано в №89, сентябрь 1999)

«Дело Михоэлса»: новый взгляд

Поэт печали, гнева и любви

