Владимир Войнович: как возникает стереоскопическое зрение
С журналом «Лехаим» у Владимира Войновича были особые отношения. За последние 15 лет писатель трижды беседовал с нашим изданием. Одно из этих интервью мы публикуем сегодня в память о Владимире Николаевиче, ушедшем из жизни в минувшую пятницу. В 2004 году с Войновичем беседовала поэтесса и литературовед Татьяна Бек.

– Володя, в детстве, когда ты жил с родителями, возникала ли у вас тема, что называется, национальной принадлежности? Мама у тебя была еврейка, папа – русский сербского происхождения (я их знала), были еще бабушки-дедушки. Так вот: вы говорили о том, кто есть кто, или оно вообще до поры до времени как проблема не возникало?
– Кто есть кто обсуждалось больше на улице, чем дома. На улице я впервые услышал слово, с которым прибежал домой и спросил отца: «Папа, ты жик?» Так и сказал «ж и к». Не помню, что он мне ответил. Насчет национальности мамы я тоже имел смутное представление… Кроме того, когда я опять же был маленький, то отец мой сидел, а мама с бабушкой не хотели, чтобы я понимал их разговор, – и они говорили на идиш. А я не знал, что этот язык называется идиш и что на нем говорят евреи.
– Откуда они его так хорошо знали?
– Они из местечка были. Из местечка Хащеваты. Одесская область. У бабушки это вообще был основной язык, она, бабушка, была малограмотная, говорила тоже не шибко правильно, но зато на нескольких языках – на идиш, на русском и на польском. Между собой с мамой – на идиш, а я этого языка совершенно не понимал, и он ко мне не приставал. Хотя в детстве язык воспринимается очень хорошо и способности у меня к языкам в принципе были, но почему-то идиш не прилипал. Ничего не помню – только помню, что бабушка говорила мне: «Мишигенер пунем».
– Это что значит?
– Сумасшедшее лицо. Я мало об этом думал, никто меня тогда не дразнил, и это всё проходило мимо… Жил я и жил в таких условиях и обстоятельствах (или оно шло от моего собственного характера?), что меня национальная сторона жизни ничуть не интересовала. Не было у меня такого, как бывает, когда евреи считают, кто еврей, кто не еврей, и кто на сколько… Только, пожалуй, когда приехал в Москву, мне сказали: Ботвинник – еврей… А сам я об этом не думал: еврей – не еврей. Даже по таким чисто еврейским фамилиям, как Бронштейн, не задумывался. Мне это было не интересно… У моей мамы в более позднем возрасте оно проявилось: она перебирала великих людей и подсчитывала: вот этот еврей, и этот еврей, и этот… И ей было приятно, что так много великих людей были евреями. В молодости у мамы такого обостренного чувства еврейства не было, а к старости оно ею завладело… И она об этом думала все время. Под конец жизни стала патриоткой Израиля и все время слушала «Голос Израиля». Со мною уже в то время (70-е годы) происходили кое-какие вещи, и обо мне говорили разные радиостанции, «Голос Америки», «Свобода», Би-би-си, «Немецкая волна». Я ей говорил: «У нас переписки нормальной нет, но ты слушай эти радиостанции и узнаешь обо мне то, что я тебе не смогу написать». Но нет! Только Израиль. Она об Израиле думала больше, чем обо мне. (Смеется. – Т.Б.) Она сама меня евреем не считала. Однажды говорит: «Вова, почему бы тебе не поехать в Израиль?» И тут же спохватилась: «Ах да, я забыла».
– А не мать – посторонние люди тебя как еврея третировали?
– Нет. Меня в бытовом смысле очень мало по этой линии обижали, хотя я никогда не скрывал своих корней. Я не скрывал, но когда мне надо было себя отождествить с одной национальностью: или – или, то я, не задумываясь, называл себя русским, потому что я, если учитывать все факторы – происхождение, язык и культуру, – я, конечно, русский, а не еврей и не серб. Мой дед по происхождению был чистым сербом, но родился в России, говорил по-русски, считал себя русским, и никто в этом не сомневался. Да и по характеру, мне кажется, я больше русский, чем кто бы то ни было.
– По характеру, насколько я тебя знаю (а я тебя знаю почти с детства – уже сорок лет), ты все-таки серб.
– Может быть. Вообще, характер формируется генами, воспитанием и средой. Среда у меня была первые четверть века почти исключительно русская, вот и сам я был совсем русским, а потом в Москве появилось много друзей, интеллигентов еврейского происхождения… Возможно, я с ними тоже, как говорят, объевреился, что бывает с людьми и чисто русского происхождения. Но все равно я – русский, и это не причина для гордости или самоуничижения, а просто факт. Но для антисемитов я, конечно, еврей, а для некоторых евреев тоже. Мне часто говорят, что раз мать у меня еврейка, то по израильским законам и сам я еврей. Но я в Израиле не живу и, приспосабливая Пушкина к данному случаю, руководствуюсь законом мной самим над собой установленным.
Есть давний спор, подогретый Солженицыным, кто кого больше обижает: русские евреев или наоборот. Как полукровка, чувствительный к обидам любой из своих сторон, могу сказать объективно: евреев обижают больше. Я слышал много раз высказывания вроде: «Мало вас, евреев, Гитлер уничтожал. Шесть миллионов? Мало, надо бы всех!» Никогда ничего подобного о русских я не слышал ни от одного еврея. Я никогда не скрывал своих корней, но твердо знал, какую именно половину лучше скрыть для карьеры. Когда я был пастухом или плотником, мое национальное происхождение не имело значения, но стоило мне попытаться подняться на ступеньку выше и заполнить анкету, тут уж кто-нибудь докапывался или до национальности матери или обращал внимание, что фамилия у меня на «ич», не понимая того, что с воинственным корнем эта фамилия еврейской никак быть не может. Если кто-то говорил, что я еврей, я этого не отрицал, а часто люди, имевшие предубеждения против евреев, говорили, что вообще евреи плохие, но Войнович хороший.
В 53-м году, во время «дела врачей», когда официальная пропаганда изо дня в день настраивала советских людей против евреев, один солдат встал у нас на политзанятии, покраснел и с таким видом, будто кидается на амбразуру, сказал: «Товарищ старший лейтенант, а почему у нас в Советском Союзе евреев не расстреливают?»
– А он?
– А товарищ старший лейтенант был та-а-акой вальяжный, он та-а-ак изысканно выражался. И он говорит: «Ну, это было бы неправильно всех евреев расстреливать. Мы – интернационалисты, мы ко всем нациям относимся одинаково, и евреи есть разные. Есть евреи, говорит, плохие, а есть хорошие, трудящиеся евреи…» Тут вскочил другой солдат и подсказывает: «Вот как, например, Войнович!» Старший лейтенант мне поклонился и говорит: «Да. Вот как, например, Войнович»… Тут этот, первый, покраснел еще больше и сказал: «Войнович не еврей». Он знал точно, что у меня мать – еврейка, но меня из расстрельного списка он вычеркнул.
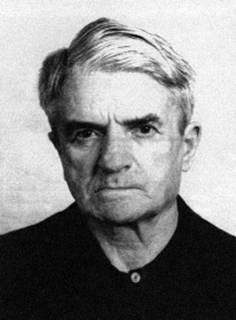
Отец, Николай Павлович Войнович, журналист, поэт, переводчик сербского эпоса. Был крайним аскетом и сына побуждал к тому же, утверждая, что «Хлеб да вода – молодецкая еда».
– Да… Историйка!
– Я хочу добавить как полукровка (кто не желает – не поверит), что меня одинаково заденет, если меня будут оскорблять как русского и как еврея… За границей часто пишут, что русские такие-сякие, – меня это оскорбляет. Как и когда говорят напраслину о евреях.
Повторяю: на бытовом уровне меня редко оскорбляли, но на не бытовом о моей еврейской половине напоминали очень часто. Там, где надо было заполнять анкету… Стоило мне высунуться и заполнять анкету там, где светила хоть маленькая должность – чуть-чуть! – там обязательно это вылезало.
– Ну, например?
– Ну, например, занимался я в Запорожском аэроклубе, где летал на планере и прыгал с парашютом. У меня не было среднего образования – было только семь классов. И я на большее не мог рассчитывать – хотел поступить в военную планерную школу. И меня не приняли – Военкомат меня туда отказался направить. Не сказали – почему. Но никакой другой причины не было. Я очень даже туда годился: я в аэроклубе летал лучше всех – об этом даже в газете писали…

Мама Розалия Клементьевна, урожденная Гойхман. Окончила пединститут. Преподавала математику.
– Они решили, что Войнович – еврейская фамилия?
– Что они решили и посчитали, я не знаю, потому что они мне никогда этого не сказали. Но у меня и так, и так получалось: или решали, что Войнович – еврейская фамилия, и тогда меня откуда-то вычеркивали, или добирались до национальности матери и вычеркивали тем более… А с фамилией еще и так было. Я в 56-м году поступал в Литературный институт. Меня не приняли, сказали, что стихи слабые, – я с этим и теперь согласен. А в 57-м я опять стал поступать – и стихи у меня уже были не совсем слабые. Вполне для поступления в Литинститут приличные. Например, там было стихотворение про танцы в сельском клубе (ты его знаешь) – оно уже ничего. Я сначала прошел творческий конкурс… Прости, Таня, что так сумбурно, но тут нужна предыстория.
– Давай!
– В 56-м я приехал в Москву, работал на стройке (я тыщу раз это уже рассказывал), и однажды к нам в общежитие приехали поэты – Коваленков, Фоломин и еще кто-то. Они читали стихи, а потом выскочила воспитательница и говорит: «У нас тоже поэт есть» – и называет меня. Я вышел и прочитал свои стихи. Были там и неумелые, но были и неплохие. Фоломин предложил мне посещать его домашний литературный кружок, а Коваленков пригласил ходить на его семинар. И я туда в Литинститут на семинар ходил. А когда пришло время поступать, я опять подал туда заявление. И через некоторое время мне сказали, что я прошел творческий конкурс… И я уже готовлюсь к экзаменам, и вдруг мне сообщают, что нет, я не прошел творческий конкурс… А по секрету сообщили, что там отложили 10 дел с «подозрительными» фамилиями. Моя оказалась тоже подозрительной, и именно Коваленков и написал отрицательный отзыв. Тогда я ему позвонил, Коваленкову, и говорю: «Александр Александрович, я вам хочу сказать, что вы подлец».
– Да-а-а… Характер у тебя уже тогда оформился.
– Ладно. Но интересно, что он ответил.
– Что?
– Он закричал: «У вас неверная информация!»
Так я не поступил в Литературный институт.
А в 60-м я поступил на работу в Радиокомитет на должность младшего редактора, на самую маленькую должность. Меня сначала приняли, а потом кадровик бегал и у кого-то всё выспрашивал, а не еврейская ли фамилия Войнович? Ему сказали: «Нет, не еврейская». А он всё говорил: «Ну как же? Она на “ич”!» А ему там говорят: «Вот и Пуришкевич был тоже на “ич”…» Он спрашивает: «А кто это?» Ему объясняют: «Известный антисемит». Тогда кадровик успокоился.
Еще вспомнил. Году в 58-м я хотел устроиться в школу преподавателем труда. Мне это дело предложила теща поэта Евгения Храмова, которая была директором школы. Она предложила, я согласился. Она направила меня в РОНО. Пришел я в РОНО. А там говорят: «Почему вы в нашем районе оказались? Вы же живете в другом районе». Я подумал: и впрямь – я живу в другом районе – и пошел прочь… И ничего не понял. А потом теща сказала Храмову: «Мне позвонили из РОНО и сказали, вы что, не видите, кого вы к нам присылаете?»
Остаточный антисемитизм был везде, это, может быть, и не было государственно оформленной политикой, но государство это не пресекало, то есть – считай – поощряло. Все начальники, даже принимавшие на работу евреев, даже сами евреи всегда заботились, чтобы евреев у них не было слишком много… Когда я работал на радио, там людям с подозрительными фамилиями предлагали взять псевдонимы. Правда, мне никто никогда взять псевдоним не предлагал… Но я бы и не взял. Впрочем, иногда я писал под псевдонимом, просто так. Работал я в многотиражке и печатался под псевдонимом «В. Нович».
…А в общем, возвращаясь к нашей теме, – когда утверждают, что евреев в Советской России не преследовали, то это вранье. И это я говорю – при том, что я только половинка и что в паспорте у меня всегда было написано «русский».

1935 г. Вова Войнович на балконе радакции «Коммунист Таджикистана» ждет, когда вылетит птичка.
– Ты когда писал свою книгу «Портрет на фоне мифа», полемизирующую с Солженицыным, – ты его двухтомник «Двести лет вместе» еще не читал, я так понимаю?
– Когда писал, то да, не читал.
– Но все равно странно, что ты не коснулся еврейского вопроса у Солженицына: то, что его этот вопрос волнует, было известно задолго до выхода в свет текста «Двести лет вместе»…
– Почему – я очень даже коснулся. Просто без ссылки на эту книгу. Потому что эту книгу я тогда действительно еще не читал. Первый том «Двухсот лет…» появился как раз тогда, когда я свою книгу заканчивал. Мне говорят: «Читай-читай!» «Нет, – говорю, – не буду. Она во мне вызовет разные другие мысли, и мне придется уходить в сторону куда-то от моего первоначального замысла. А я бы этого не хотел»… Потом я, конечно, эту вещь, не скажу, что почитал, – полистал… Некоторые главы прочел внимательнее. И скажу сразу: для равновесного, как он определяет, освещения этого вопроса ему не хватило совести, ума и таланта. По уму и по совести он должен был бы понять, что эта тема вообще решения не имеет. Говорить о различиях между евреями и русскими еще как-то возможно, когда они живут обособленно и соблюдают свои обычаи и законы. А когда перемешались, как, например, в Москве, рядом живут, вместе работают, отмечают одни и те же события, пьют водку, женятся без уважения к пятому пункту, и те, которые не имеют параноидно обостренного национального чувства (а таких большинство), становятся единой нацией. Окуджава говорил, что он по национальности москвич, и то же мог бы про себя сказать любой выросший в Москве и не слишком гордящийся своим национальным происхождением человек. Еще и потому Солженицыну оказалась эта тема «невподым», что у него есть большой, даже катастрофический для писателя недостаток: он не чувствует чужой боли. Например, он пишет, что во время войны среди эвакуированных было больше евреев, чем среди русских, и обходит вниманием главную причину, что евреям в отличие от русских грозило поголовное уничтожение. Он утверждает, что на фронте евреи держались подальше от передовой (ему виднее, он сам держался подальше), упуская объяснить, что в штабах и медсанбатах они были нужней, потому что обладали определенными профессиями и образованием, а вот среди боевых летчиков по той же причине их было пропорционально больше, чем среди находившейся в безопасности аэродромной обслуги. Будь он подобросовестней, ему следовало бы подсчитать, какой процент евреев был в самом гибельном войске – в ополчении. Солженицын поддерживает миф, что евреи всегда хитрые, что они хорошо устраиваются и всё такое. Конечно, среди евреев есть чрезвычайно богатые люди – они очень заметны. Антисемиты тычут в них пальцем и говорят – вот евреи. Но в массе своей евреи всегда были бедные. До революции это была местечковая голытьба, а при советской власти – рядовые учителя, врачи, инженеры, жившие на нищенскую зарплату, никакими гешефтами не занимавшиеся.
Большинство евреев, кого я близко знал, были бедняки из бедняков. Мои русские родственники тоже всегда были бедные, но еврейские – куда беднее! Моя мама в начале 50-х (перед тем, как ее выгнали как еврейку из школы) вела уроки в пальто. Директор ей и говорит: «А почему вы все время в пальто преподаете?» Она и сказала: «Потому что у меня под пальто нет платья».

18 лет. Перед забритием в солдаты.
– Твой «Портрет на фоне мифа», проза нон-фикшен, посвященная Солженицыну, появилась много позже художественной сатиры «Москва 2042», где многие читатели в собирательном и гротесковом образе Карнавалова углядели черты Александра Исаича, а некоторые за него и обиделись. Обиделись и на «Портрет на фоне мифа»…
– Многие, конечно, обиделись. Одни потому, что я, по их мнению, забыл (я не забыл), что Солженицын – автор «Архипелага ГУЛАГ», другие потому, что он старый, слабый и больной. А я сам стар, слаб и болен, но идейные споры – это не кулачные бои, спорить можно, и часто нужно даже с мертвыми (например, Солженицын спорит с Лениным). Но я должен сказать, что на «Портрет…» я получил много и положительных откликов! Многие люди считают, что я написал объективный портрет. И они правы. Я не возвел на Солженицына никакой напраслины, не присоединился ни к одному обвинению, которое не посчитал достаточно достоверным. Я написал только то, что видел, слышал, читал и о чем честно думаю.
– Количество и накал отрицательных откликов тоже говорит о том, что автор попал в нервную точку. В конце концов, если он вовсе не прав, чего так злиться?!
– Многие люди с трудом отказываются от легенды, ими же созданной. Некоторые не могут до сих пор отрешиться от своего прошлого представления о Солженицыне, как не могли отрешиться вопреки всему от легенды о добром Ленине, а другие защищают его корыстно, в расчете на то, что от него что-нибудь перепадет… Напоминаю, что я когда-то Солженицына очень защищал, с риском по крайней мере для собственного благополучия. А многие люди себя теперь в воображении переставляют в другое время и, защищая Солженицына, кажутся себе большими героями. Как говорится, смело бегают по бывшему минному полю… Повторяю, я старался быть максимально объективным. Написал свои собственные ощущения. Как я его воспринял вначале и как разочаровался. И почему разочаровался.
– Но ты вернись к Карнавалову из романа «Москва…»
– А я всегда отрицал, что Карнавалов и Солженицын – одно лицо. Всегда отрицал и сейчас отрицаю. Карнавалов – образ пародийный, и пародия эта не только на Солженицына, а вообще на подобный тип. И даже если отчасти на Солженицына, то это пародия все-таки добродушная. И я был очень удивлен в 80-х годах столь острой реакцией: как? кто? что? Я знал и тогда уже, что отношение к Солженицыну носит характер какой-то болезни, а потом в этом еще и убедился. И кстати сказать, тогдашняя реакция общества, окружения Солженицына и его собственная оказались важным побудительным мотивом для написания «Портрета»… Я написал пародию, а на меня накинулись как на Дантеса, который застрелил гордость нашей литературы…

Середина 60-х. Молодой и временно преуспевающий писатель.
– А откуда взялось такое документальное отождествление? Фамилия-то совсем иная и явно обобщенная (кивок в сторону карнавальной культуры)…
– Вот и мне кажется, что так узнавать себя даже неловко. Узнал – ну и промолчи. Я уже говорил как-то, но еще и еще раз могу сказать, что если пародия получилась не смешная, то читатель посмеется над автором, а не над пародией. А если смешная, то нечего жаловаться. Если смешная и автор какие-то черты уловил, то пародируемому надо подумать о себе.
– Это в истории литературы известный прецедент, когда прототипы сами себя выводят на чистую воду. Ты не одинок! Но пошли дальше. За 90-е годы ты написал немало. Прежде всего – автобиографическую книгу «Замысел». Это книга, которую можно писать бесконечно… Ты будешь «Замысел» продолжать?
– Я его и продолжаю. Вообще, у меня написано много вещей, которые я не публикую. Например, продолжение истории «Чонкина». Написано, но я недоволен, как это получилось. Хочется что-то добавить… Но руки не доходят. Всё даже не в черновиках, а с пятого на десятое.
– Насколько я знаю, Чонкин у тебя остается живой и после войны попадает в Америку, да?
– В Америку он попадает сложным путем. Войну он кончил в Германии. Потом случайно оказался на американской территории, в лагере для перемещенных лиц, и так получилось, что ему деваться некуда. И его взяли батраком работать в Америке, и он туда уехал… Написано кусками. Цельного рассказа у меня пока нет, и цельный я, наверное, уже не напишу. Всё собираюсь, собираюсь… А возьму как-нибудь и напечатаю кусками, как есть. И это тоже может войти в «Замысел».

1974 г. Бывший член Союза писателей СССР с женой Ириной и дочкой Ольгой.
– Володя, тебе не кажется ли иногда, что ты сам – прототип Чонкина?
– Нет, не кажется особенно. Мне кажется, что я больше похож на Голубева, председателя колхоза из «Чонкина», который всегда сомневается: что ему лучше сейчас съесть – яичницу или картошку. Но, наверное, и в Чонкине есть какие-то мои черты… Меня, между прочим, в армии звали Швейком. Потому что я себя иногда вел, как Швейк. Например, я однажды вечером стоял на посту в помещении – охранял секретную комнату. И меня уже должны были сменить. В шесть часов. Проходит 20 минут… 30 минут… Меня не меняют. Еще проходит около часу – меня не меняют. А должны были привезти фильм, который я очень хотел посмотреть. По-моему, это был итальянский фильм «Мечты на дорогах», который у нас показывали второй раз. Он мне очень понравился – и я хотел снова посмотреть. Должны сменить. Не идут. Я ждал-ждал, а потом взял выставил карабин в окно и выстрелил. Часовой так вызывает смену или начальника караула, но только в исключительных случаях. Я выстрелил. Ко мне немедленно прибежали. Поднялся дикий переполох. Сразу все забегали – и вместо кино я попал на гауптвахту. И просидел там ночь. Камера холодная. Я – раздетый. Нар нет – холодный цементный пол. Я хотел спать, попробовал лечь на пол – не могу. Сидеть не на чем. Стоять невозможно. Потом пришли ко мне под утро и сказали: «Пойдешь на кухню картошку чистить?» Я сказал: «Пойду» – и был рад, что мне предложили чистить картошку.
А потом меня освободили. Тоже смешно было… Пришли и сказали: «Майор Догадкин (это был наш командир роты) тебя освобождает. Иди в казарму…» И я пошел в казарму. Потом я стал говорить, что меня освободили, потому что есть такой приказ: курсантов из школы механиков не сажать на гауптвахту, чтобы они не отставали в учении. Я слышал, что так говорили, ну и я говорил… А какой-то стукач это майору донес. И он однажды на вечерней проверке приказывает: «Курсант Войнович, выйти из строя». Я вышел. Он: «Товарищи курсанты! Курсант Войнович говорит, что я, майор Догадкин, не имею права его, курсанта Войновича, посадить на гауптвахту. Так вот, чтобы он не сомневался, двое суток строгого ареста». И меня – опять на гауптвахту. Приходит за мной командир взвода старший лейтенант Потапов. «Собирайся, пойдем на губу». Я говорю: «Хорошо». А я перед этим почитал внимательно устав, и там написано, что, во-первых, на строгой гауптвахте запрещено работать. А второе, в камере должна быть температура не ниже 16 градусов, а если ниже, то должна выдаваться шинель. И еще обязательно выдается топчан. На гауптвахте читать запрещается, но в порядке исключения разрешается читать политическую литературу… И я перед тем, как отправиться на гауптвахту, пошел в библиотеку и набрал несколько томов Ленина и Сталина и еще устав. Потом взял и снял градусник в казарме. Приходит старший лейтенант Потапов, говорит: «На гауптвахту!» Я беру шинель. Он: «Куда шинель?» Я говорю: «Вот устав, смотрите… 16 градусов… И на ночь в любом случае выдается шинель…» Он говорит: «Хорошо». Беру книги. Он: «Куда книги?» А я говорю: «Вы что – против Ленина и Сталина?» Короче, он меня ведет, встречает другого командира взвода, и тот спрашивает: «А ты его в библиотеку ведешь?» И так далее.
В общем, я в армии все время хулиганил и так себя вел, что меня иногда звали Швейком. Дело было в Польше.
– Но сослуживцы-то тебя любили?
– По крайней мере уважали. Я был хороший товарищ, все знали, что в случае чего не предам, не продам, не подведу. Кроме того, я их развлекал, эрудиция у меня была повыше. Потом я начал писать стихи – меня за это стали уважать. И просто все знали, что на меня можно положиться.
– Ты в армии уже предполагал, что станешь писателем?
– В армии у меня родилась эта надежда. Поскольку я перед армией учился в вечерней школе, но полного среднего образования у меня не было, я думал: вот закончу службу, мне будет 23 года, я, естественно, должен буду идти работать столяром, плотником или слесарем. И ходить в вечернюю школу. Надо еще кончить восьмой, девятый, десятый класс, потом – институт… Годам к сорока стану начинающим инженером. И тут я стал думать: нет ли такой профессии, которая не требует формального образования? Таких профессий я насчитал три: актер, художник и писатель. В конце концов, я остановился на писателе. У меня был приятель, который писал стихи, и я стал думать, что и я так смогу. Я попробовал. Сначала написал одно очень плохое стихотворение. Бросил. Год в тумбочке провалялось. Кто-то нашел – сначала смеялись. Потом говорят: «А ты отправь в газету – может, напечатают». Напечатали, хотя оно было плохое.
Я подумал: остается еще год служить в армии. Каждая профессия – и эта тем более – требует если не учебы регулярной и определенного образования, то по крайней мере тренировки, да? И я решил писать в день по одному стихотворению. Я шутил со своими товарищами: «Вот когда-нибудь стану знаменитым поэтом, будешь гордиться, что со мной вместе служил…» Сам в это не верил. А несколько лет назад я был в Самаре, и подходит ко мне один человек и показывает мне фотографию. «Вы, – говорит, – узнаете кого-нибудь?» Смотрел-смотрел… Себя узнаю! А это такой-то, а это такой-то, а это Назаренко… «Нет, – он говорит. – Назаренко снимал. Назаренко – это я». Так что мое пророчество сбылось.
А в общем, надо сказать, что я сам себя с самого начала трезво оценивал. Когда писал очень плохо, понимал, что это очень плохо. А потом стал писать просто плохо и понял, что это уже шаг вперед. Писал каждый день не меньше одного стихотворения. При том, что было всего 40 минут в день свободного времени. Но я писал даже когда работал (авиамехаником) – даже на крыле самолета… И однажды я написал стихотворение, про которое мог бы сказать, что это уже неплохо. И с ним я побежал к одному сослуживцу, который в отличие от меня кончил до армии учительский институт. Были такие учительские институты – это немножко меньше, чем пединститут, – они давали незаконченное высшее образование. Двухгодичные, для преподавания в семилетке. Он был преподаватель литературы. Он прочел. «Здорово, – говорит. – Я, – говорит, – тоже писал стихи, но так хорошо у меня не получалось…»
Это внушило мне надежды, я писал-писал, потом демобилизовался, а когда демобилизовался, то напечатал пару стихотворений в газете «Керченский рабочий». А у меня там был приятель Марк Смородин, моряк, который учился заочно в Литинституте. И мы с ним говорили о будущем. И я ему сказал: «Через пять лет я буду известным поэтом». Он не поверил. Мы с ним даже поспорили на ящик шампанского. Марк говорит: «Ну и как мы будем определять степень известности?» Я говорю: «Так. Мы придем в любой институт в студенческую аудиторию и спросим, знает ли кто-нибудь такого поэта?» Если поднимется хоть одна рука, – значит, я достаточно известен. Не обязательно знаменит. Просто известен. Вот! …Мы с ним поспорили, и он проиграл.

1980 г. Декабрь. Последний снимок перед отъездом. Слева направо: дочь Марина, сам Войнович, художник Борис Биргер, сын Павел и двоюродный брат писателя Виктор Шкляревский.
– Скажи: когда ты полностью с поэзии перескочил на прозу и почему? Мне иногда жаль, что ты совсем бросил поэзию…
Ну, не совсем бросил. Я скажу так. Я начинал писать – просто потому, что я был хороший читатель. Просто сумасшедший читатель (сейчас так про себя не скажу). Но читал я исключительно прозу. Пока я не начал писать стихи, я поэзию почти не читал. Ну, знал отдельные строки… «Как ныне сбирается вещий Олег…» В основном то, что в школе проходили и что случайно в голове застревало… У меня была очень хорошая память, и застревало многое.
Когда я начал писать стихи, я советскую поэзию всю перечитал. А до этого не знал… Но все же я хотел писать то, что я больше любил читать. То есть прозу. Мне очень хотелось написать повесть, рассказ, роман. Что-то большое. А у меня не получалось.
Я уже не раз говорил и повторю еще: проза (я в этом уверен) есть более сложный жанр, чем поэзия. Не случайно она редко каким поэтам удавалась. Писать стихотворение – это как плыть по реке: есть ориентиры, есть берега, есть бакены, а в стихах – размер, рифма… Рифма тянет за собою мысль… А в прозе как в безбрежном океане – без руля и без ветрил! Без компаса. Туда корабль повести – сюда повести. Нет никаких маяков. И поэтому у меня стихи даже уже печатались и уже были на каком-то уровне, близком к профессиональному, а проза никак не получалась, ну никак. У меня к тому времени был довольно богатый для моего возраста жизненный опыт, но почему-то меня все время тянуло на выдумки… Первый рассказ я написал о каких-то русских моряках, в ХIХ веке на Гавайских островах… И когда у меня проза в конце концов получилась (а это произошло в 60-м году), когда я понял, что вот… что-то есть… Я это понял на «Мы здесь живем». Хотя у меня уже до этого был написан рассказ «Вдова полковника» – предвестник «Чонкина». Но только на «Мы здесь живем» (как с тем стихотворением) я понял, что у меня что-то получается. Написал первые страницы повести и осознал, что я ухватил – кого там?

12 декабря 1980 г. Первые минуты на немецкой земле. Виктор Некрасов встречает Войновичей в мюнхенском аэропорту.
– Жар-птицу?
– Ну, не жар-птицу, но удачу ухватил. И когда я понял, что я – прозаик, я тут же, немедленно бросил писать стихи. И не писал их 25 лет. А потом вдруг начал писать снова.
– В каком году ты начал стихи писать снова?
– В 85-м году. А бросил в 60-м.
– Что за стихи ты написал после перерыва?
– Это была пародия на Окуджаву. Дело было так. Ко мне приехал Окуджава в Штокдорф (под Мюнхеном). Мы с ним гуляли, выпивали, говорили о многом… В общем, я был ужасно взволнован этой встречей. Все-таки когда живешь в эмиграции, в отрыве, то встречаешь там новых людей, но людей, которые у тебя были здесь, ты потерял. И значит, ты потерял прошлую жизнь. И когда Окуджава приехал и жил у нас, – у меня, жены и дочки, – то я был так взволнован, что вдруг написал стихи… Они напечатаны в моем каталоге «Образы и слова». Это даже не пародия, а ироническое подражание Окуджаве. «Я никого не трогал, лишь повести кропал./ Но с отчего порога был изгнан и попал/ За дальние пределы, на чуждые пиры./ Но где-то конь мой белый гуляет до поры…» И так далее. А последнее стихотворение сочинил в 2000-м.
– Скажи, среди всего, что ты написал в разных жанрах, есть ли у тебя самое любимое произведение?
– Если говорить о прозе, то, может быть, рассказ «Путем взаимной переписки». «Чонкина» я, конечно, особенно люблю: очень много переживаний связано с этой книгой. Но «Путем взаимной переписки» – самая моя совершенная вещь, потому что (может, кто-то не согласится?) совершенный роман написать вообще невозможно. Роман есть большое пространство, и вообще, в романе – у меня такая теория – провалы даже необходимы. Если ехать все время по гладкой дороге, то заснуть можно! Нужны ухабы время от времени… Конечно, стихотворение может быть полным шедевром. Само собой, рассказ. И повесть: тут возможно, чтобы все – от начала до конца – было написано в едином ключе. Примерно как я хотел и без провалов.

Художник за работой. 1998 г
– Твой роман «Замысел» – вещь, построенная в такой композиции, что ее можно писать без конца. Она мозаична. Ты продолжаешь его писать?
– Продолжаю. Странно, что никто не замечает, что я его и публикую. Я пишу-пишу, дошел до Солженицына, раз – и написал целую книжку. А она тоже – часть «Замысла», безусловно. То же самое – моя документальная повесть о моем отравлении «Дело N 34840». Опять дошел до этого поворота – и поехал в сторону… Больше того. Моя живопись – это тоже часть «Замысла». Ее нельзя вставить в книгу, но она – ее часть. Потому что я писал-писал, и у меня родился замысел, который понудил меня взяться за кисть.
– Давай поговорим об этом. Году в 95-м ты всех своих близких поразил. На тебя как чума напала. Что было в твоей натуре, чему не хватило словесности, и что именно ты смог, ты счел возможным выразить только как художник?
– Не знаю, почему мне не хватило литературы… К середине 90-х появилась у меня некая усталость. Все ломалось, вся жизнь моя, страны и мира, все привычные представления. Возникала новая действительность, за которой я просто не поспевал. За ней и вся литература вообще не поспевала, писатели не могли ее освоить. И вот я сидел, полный замыслов, и вроде знал, о чем хочу писать, но у меня как будто настроение кончилось. И помню свое ощущение: сажусь к компьютеру и вроде знаю, что писать, точно знаю, что надо… Но смотрю на экран, и мне становится скучно-скучно, и ничего не хочется. Сижу бессмысленно и смотрю на экран. И не пишу… И в это время одна моя знакомая говорит: «У тебя кризис, у тебя кризис». (Смеется. – Т.Б.) «Творческий кризис!» Ну, что ж – она права. Нормально. У всякого творческого человека бывает творческий кризис. Обязательно должны быть и кризисы, и подъемы. Без этого нет искусства… И вдруг я написал сначала одну картинку. И почувствовал, что я сошел с ума. В 94-м году. Мне было 62 года. Написал картинку – и мне жутко понравился этот процесс. Я совершенно не думал, что из этого получится. Просто понравился процесс, чего у меня не было в литературе. В литературе у меня всегда – стремление к совершенству (насколько я до него дохожу – не мне судить). Написать фразу. Абзац. Страницу. И так далее. Здесь же мне понравился сам процесс…
– А не помнишь, что ты первое написал как художник?
– Первое – я переделал чужую картинку. Там были розы на окне. Мне не понравилось – и я фон переделал. Смотрю: она заиграла! Тогда я попробовал собственный автопортрет: вот он. (Показывает в каталоге. – Т.Б.) Еще слабо, но что-то есть, лучше, чем первое стихотворение. Еще попробовал, и еще. «Что такое? – думаю. – Мне надо книгу писать, а я закончу одну картинку, и сразу возникает новая идея…» Сначала писал на бумаге, сам себя стеснялся, холсты не покупал – мне, мол, не по чину. Если куплю холст, то получается, что я всерьез художник. Да? А я не художник, а я просто так… Малюю… То, что я малевал, листки бумаги – стал я прибивать к стенке. И когда на них кто-то обратил внимание и сказал, что «в этом что-то есть», я сначала был вообще-то очень удивлен. Это мне понравилось, но я долго думал, что меня хвалят – просто чтобы приятное сказать. Я в себе сомневался… Однако три года писал только картины. Три года практически ничего не зарабатывал.
– Тебя наверняка часто сравнивают с Анри Руссо…
– Сто раз сравнивали. И с Анри Руссо, и с Пиросмани. С Пиросмани мне лестно, а с Руссо – нет. Он мне вообще не нравится. А Пиросмани – да, я его очень люблю… Сейчас в моде искусство примитива. Сейчас часто профессиональные художники делают вид, что они не умеют рисовать. А я говорю: «Я подлинный, потому что действительно не умею рисовать». (Смеется.– Т.Б.).
– Каким бы термином ты сам определил свою живопись?
– Такого термина у меня нет. Но я хочу, чтобы меня называли наивным, а не примитивным, потому что слово «примитив» мне все же не нравится. И потом я честно думаю, что вовсе не все мои картины примитивны – в некоторых я достигаю чего-то иного. Недавно один питерский искусствовед и коллекционер сказал: «Войнович придуривается, делая вид, что он – примитивист».
– Я в твоих портретах вижу скорее не примитив, но легкий шарж.
– Да, пожалуй. Бывает и гротеск. Один художник говорит мне недавно: «Вы знаете, там-то и там-то – выставка наивного искусства. Вам обязательно надо пойти посмотреть». Я говорю: «Не хочу». – «Почему?» Отвечаю: «Потому что сам я могу быть наивным, но я учусь у тех, кто рисовать умеет. Сам не умею – ладно. Но если я еще буду учиться у тех, кто не умеет, то – что из этого выйдет хорошего?»… Чтобы чего-то достигнуть в искусстве, надо учиться у высших образцов. Это серьезная мысль – то, что я тебе сейчас говорю. Поняла? Если ты поэт, то надо учиться у Пушкина, а не у Ошанина. Надо учиться т а м!

С Наумом Коржавиным. 1997 г.
– Поняла. Спасибо за науку. Скажи: тебе кажется, что твоя живопись исключительно радостная? А мне кажется, что она очень печальная, а зачастую и трагическая. Особенно автопортреты. Такая тоска в глазах – и всегда старше своих лет.
– Может быть… Я всегда боюсь изобразить себя самовлюбленным. Я и в литературе постоянно над собой немножко подтруниваю. Я считаю, что человеку необходима самоирония. Когда он начинает себя слишком любить, это плохо… Когда я пишу свой очередной автопортрет и смотрю на себя в зеркало, то я вижу, что я – старый человек, с дряблым лицом. И я не хочу себя приукрасить. Кроме того, оно же очень интересно художественно – каждую морщину зафиксировать… Но, возможно, я перебарщиваю. Я очень люблю автопортреты Рембрандта, всегда как будто нелестные для него. Там, где он, беззубый, смеется. Даже противный и отталкивающий. А есть и старый (по-моему, в последний год жизни) автопортрет – с повязкой на голове. Какое лицо! Печальное-печальное…И мне он так близок! Мы можем смеяться или не смеяться, но жизнь наша вообще трагична. А конец всякий трагичен. Если перефразировать Маяковского, «кто постоянно счастлив, тот, по-моему, просто глуп». Жизнь трагична и вся состоит из потерь. Человек же защищается юмором, да? Он защищается, но все равно сквозь этот юмор страдает… Когда человек молодой, у него больше жизненного оптимизма. Это идет от чувства, а не от мысли. От ощущения себя в мире. Молодой – полон сил, и всё кажется хорошо. И все близкие еще живы, все здоровы… Когда мне исполнилось 36 лет, у меня впервые умер близкий человек – моя бабушка. А потом потери пошли чередой… И литературная карьера осложнилась. И, конечно, это влияет на восприятие жизни.
– За эти лет четырнадцать, как ты вернулся, многое изменилось. Появились совсем свежие объекты для сатиры. Тебе не хочется создавать новые сатирические вещи?
– Я никогда не хотел специально писать сатиру. Просто так получалось. Про меня один критик еще в 60-х годах сказал: «Войнович придерживается чуждой нам поэтики изображения жизни как она есть». Жизнь сама по себе сатирична. Но у меня сейчас замыслы уже старого человека. Скорее мемуарные. К вымыслу сейчас душа не лежит. Пишу мемуары кусками и вспышками…
– Володя, подходим к концу беседы. Жизнь прожита длинная… Оглядываешься назад. Если бы была возможность ее, жизнь, подкорректировать, что бы ты повторил, а от каких поворотов, быть может, отказался бы?
– Во-первых, если бы это было по моему желанию, то я бы все-таки получил образование. Я вообще положил бы на это все силы. Потому что я недостаток образования всегда чувствовал и немножко скрывал. Конечно, я чего-то достиг самообразованием… Читал, запоминал. Память у меня была хорошая. Но все-таки в моих знаниях есть большие провалы, и я всегда это чувствовал… А если взять мою реальную биографию, реальные возможности, которые у меня были, то я бы, наверное, всё повторил. То, что я стал писателем? А у меня, наверное, никакого другого выхода не было из тупика, в котором я оказался. Потому что так фактически сложились мои обстоятельства и так меня устроили мои родители, что мне ничего не оставалось. Я был столяром – и не хотел быть столяром. Ну еще мог работать слесарем. Ничего иного мне не светило. А я чувствовал, что у меня есть задатки, желания, потребности – заниматься чем-то интеллектуальным. Никакого другого выхода у меня не было… Допускаю, что, если бы я получил другое образование, я бы, может, стал инженером. Может, мне бы никогда не пришло в голову, что я способен быть писателем.
– А Германию бы ты повторил?
– Германию бы повторил. Больше того: я бы раньше уехал. Я бы не стал тратить время на то, на что я здесь тратил, то есть на борьбу с КГБ и с обстоятельствами… Когда меня выгоняли, я очень не хотел уезжать, но когда я пожил за границей, то я понял, что мне как писателю этого бы опыта очень не хватало.
– Что писателю дает (как хочешь назови) чужбина, изгнание, эмиграция?
– Многое дает. Не только писателю – вообще человеку. Ты попадаешь туда… Здесь писатель был всегда лицом избалованным. Не только писатель – любимец властей, но даже писатель преследуемый, как я. Я был тоже избалован – общественным вниманием, любовью, иногда даже, возможно, чрезмерной. Даже вниманием власти и КГБ, даже тем, что за мной ездили. Я чувствовал, что я такой важный человек! А туда попал и через некоторое время понял, что я – никто. Особенно в Нью-Йорке это ощущаешь. Попадаешь в эту толпу и ощущаешь, что ты – один из нескончаемой толпы, ты никто, может быть, даже больше никто, чем кто бы то ни было. Вот и всё! И никому ты особенно не нужен. Знаешь, человеку это важно для корректировки, чтобы он не думал, что он – пуп земли. Человеку иногда очень полезно понять, что он – никто. И еще. Меняется взгляд на советскую жизнь. Есть люди, которые живут на Западе, и у них появляется некое высокомерие по отношению к так называемому «совку»…
– Не люблю это слово!
– Не любишь? Но есть высокомерие и напротив – с э т о й стороны. Они, мол, уехали… Как уехали – не важно. Всю жизнь меня дико раздражало: «Уехали из-за колбасы». Колбаса, которой я не ем… Многие советские привычки, когда я приехал обратно из-за границы, уже показались мне странными. Привычки и ухватки. Я увидел, как живут люди в более нормально организованном обществе. В общем, когда поживешь и там, и там, – это дает, я бы сказал, стереоскопическое зрение. И ты начинаешь видеть предмет объемно, а не плоско.
– Скажи (не хочешь – не отвечай): как ты относишься в принципе к еврейской эмиграции в Германию?
– Отношусь нормально. Мне все равно, куда люди эмигрируют. Я никого никогда не осуждал – эмигрировать, не эмигрировать. У нас же как? У нас одни говорят, что человек обязан жить только на родине (это чепуха), а другие говорят, что человек непременно должен уехать (тоже чепуха). Мне говорила одна еврейка в Израиле: «Как вам не стыдно жить в Германии?» Всех не переслушаешь. Поэтому, если у человека есть причины или желания, – пусть едет, куда хочет.
– Да, но существует такое мнение, что если евреи уезжают из России именно в Германию, то есть тут некий, мягко говоря, парадокс.
– Ну, да… Парадокс есть. Но это же была не вся Германия – это был гитлеровский режим. Надо помнить, что и Россия с советской властью – вовсе не одно и то же. И гитлеровский режим и Германия – не одно и то же.
Почему Германия принимает евреев? У многих есть чувство раскаяния перед евреями. Другое дело, что некоторые евреи ведут себя там довольно нагло и возбуждают антисемитские чувства. И я боюсь, что если евреев в Германии будет слишком много, то опять антисемитизм может достичь некого предела. Однако думаю, что история та никогда не повторится… В Германии неофашистских организаций и антисемитских выходок все равно меньше, чем здесь.

Картежники. 2002 г.
– Здесь, правда, малость отвлеклись на кавказцев. Мне, например, за всё это стыдно.
– Есть даже анекдот такой: «Меняю лицо кавказской национальности на жидовскую морду»… Ненависть вообще существует в самой природе человека. А ксенофобия, она проявляется очень по-разному. Я всегда привожу такой пример. Когда я служил в армии, то у нас одни рода войск ненавидели другие. Почему? Что там, что там были в основном русские люди… А потому что надо непременно ненавидеть кого-то чужого. И если служат рядом танкисты и авиаторы, то и они друг друга будут ненавидеть. Обычно ненавидят друг друга народы, которые живут по соседству. Это, повторяю, увы, в природе человека.

– Что необходимо молодому человеку, чтобы стать писателем, – помимо литературных способностей?
– В любом деле, если ты хочешь достичь вершин, нужен фанатизм. А в писательском деле – тем более. Если опять же сравнить писательство и живопись, то… Живопись может быть всякого уровня, она более многообразна и приемлема в разных видах. Приятно – вот и хорошо. В литературе не то. В литературе интересны только шедевры. Средняя словесность не может быть интересна. А наивная и примитивная тем более… В литературе можно достичь высот, исключительно если отдаешься этому полностью. Если это есть твоя страсть, твоя жизнь, твоя даже маниакальность… И приходится многим жертвовать.
– А чем ты жертвовал?
Я жертвовал тем, что я – бедствовал. Одно время я всё бросил. Только писал. Деньги не зарабатывал. Я был нищий, у меня были рваные штаны, стоптанные ботинки, а я писал, писал, писал, писал… Часто был голодный как собака. Когда я приехал в Москву, я правда очень бедствовал… Несколько лет (период становления) я просто все время ходил голодный. Приехал в Москву в 56-м, а начали меня печатать в 61-м. Голодный. Одни брюки, которые я смотрел на просвет: нет ли дырок? Стоптанные ботинки. Я мог бы чем-нибудь заняться, чтобы жить более или менее сносно и иметь вторые брюки. Но я этого не делал, потому что был весь поглощен работой…
– Оно себя оправдало. В итоге ты стал знаменитым…
– Стоп. Стал знаменитым и, значит, некрасивым, если вспомнить строку Пастернака (смеется. – Т.Б.). Так и запиши: «Стал знаменитым и некрасивым…»
Всё!
Июль– октябрь 2004.
(Опубликовано в №151, ноябрь 2004)

Владимир Войнович: «История России движется как маятник»

Войнович был писателем, вышедшим за красные флажки

