Святой как шлемиль
Когда я впервые читал «Гимпл‑дурень» (на английском, в живом и остром переводе Сола Беллоу) , у меня было чувство, что читаю не просто необычайно красивый и остроумный рассказ, а прохожу сквозь многие слои истории, как археолог на раскопках. Такое ощущение часто бывает при чтении лучших еврейских писателей. Самые «передовые» и умудренные еврейские писатели нашего времени — Бабель, Кафка, Беллоу — усвоили и даже изменили всю традицию современной литературы, одновременно сделав живым для нас исторический опыт евреев. Равным образом современный писатель на идише Исаак Башевис Зингер, используя весь старый капитал еврейского фольклора, народной речи и легенд, при верности традиции, сумел во многом воспроизвести осознанный абсурд, дерзость, раскрепощенность модернизма, ни на миг не отрекаясь от исконного еврейского мироощущения.
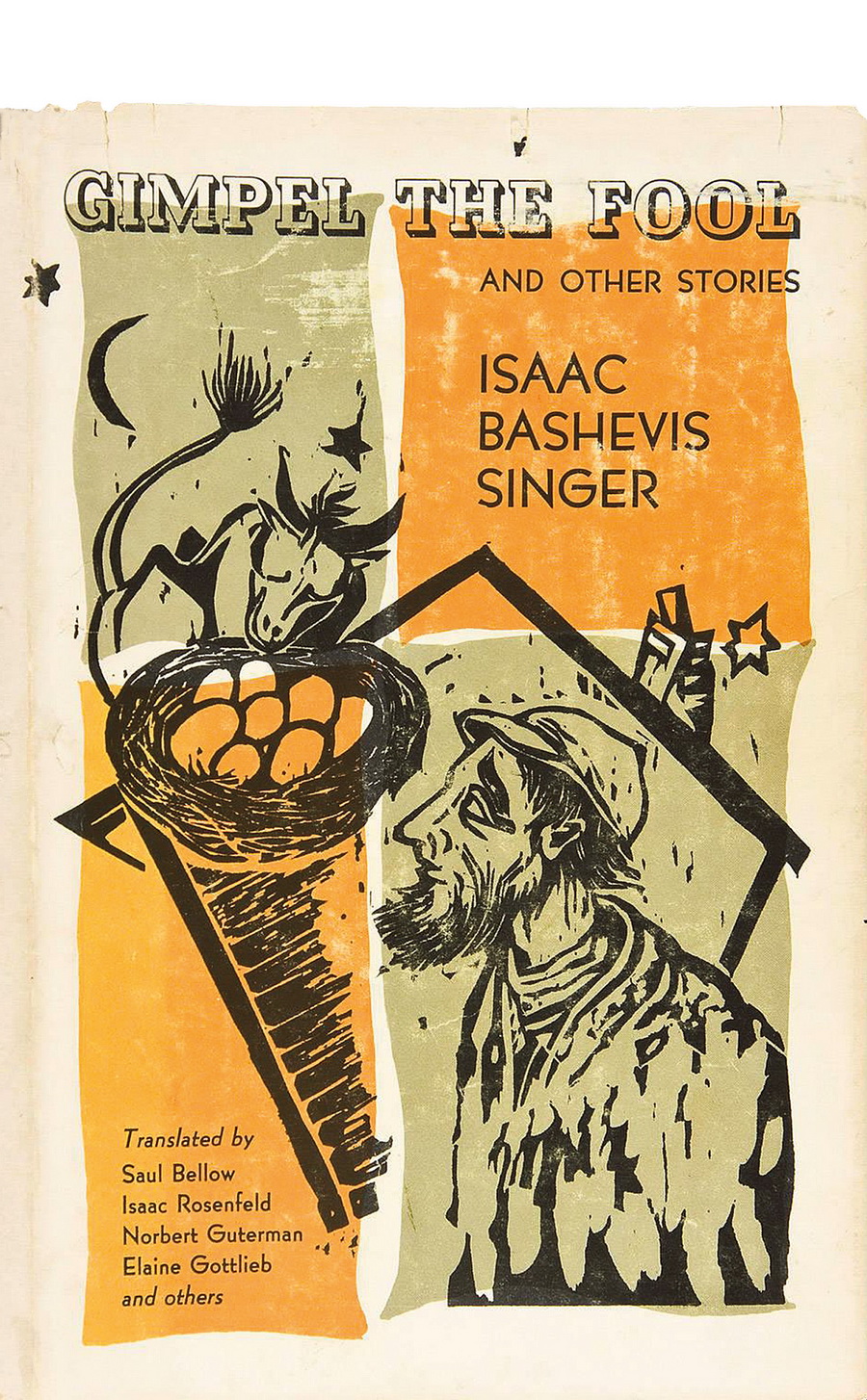
Может быть, именно эта способность сплавить все различные периоды еврейской жизни пленяет меня в таких писателях. Они несут на своих плечах целые эпохи; они одни записывают диалоги далеко отстоящих друг от друга веков. И если все эти разные периоды истории, это множество «историй» не выявляют единую точку зрения, то, по крайней мере, имеют общий исторический характер. Ирония, с какой представлены древние догмы, отзывчивость воображения, с какой они переведены на нынешний язык, воплощены в нем, создают баланс, который и есть искусство.
Сам Гимпл являет собой легендарный еврейский тип — шлемиля как святого. Над этими несчастными смеются, их преследуют, и, однако, они избранные, избраны быть носителями некоего знания во враждебном мире; городской дурак, пекарь, женился на отъявленной потаскухе и не ведает о том, что известно всему городу: через четыре месяца она родит. Гимпл — дурак у евреев: дурак, потому что беспредельно наивен, дурак, потому что, даже поняв, что обманут, пренебрегает своим достоинством ради других. Распутство его жены, ее стервозность — это не буржуазный адюльтер, «супружеская неверность», как было бы в другой культуре, но массированная истеричная травля. Уже имеющегося ребенка она выдает за своего брата. Гимпл ей верит. Через четыре месяца после свадьбы она рожает. Гимпл оплачивает обрезание, ритуалы и дает ребенку имя в память своего отца. Когда он кричит, что жена его обманула, она по обыкновению морочит его, убеждает, что дитя недоношенное.
«“Недоношенное, — говорю, — не значит неношеное!” А она про какую‑то свою бабушку, у которой только скороспелки такие и были, и она, дескать, Элька, вся в бабушку — как две капли воды! И такими при этом клянется клятвами — гою на базаре поверишь! Я‑то, по правде сказать, не поверил и на другой день поговорил об этом деле с нашим меламедом. “О подобном же случае, — объяснил он, — имеется упоминание в Гемаре. Адам и Ева взошли двое на ложе, а сошли с него четверо”» ).
Юмор ситуации — вполне реалистический: люди города не сентиментальны, держатся старомодных понятий и все про всех знают. Городские ребята вечно разыгрывают Гимпла, дурят его; над ним насмехаются даже на его свадьбе: парни несут ему в подарок колыбельку. Жена его Элька — чистый кошмар, стерва, мегера шекспировского масштаба. Но в упрямой привязанности к ней Гимпла мы прозреваем, так же, как в его всегдашней кротости, своего рода совершенство: то, что для мира дурость, с точки зрения вечности может быть именно здравомыслием:
«Хоть и честила она меня, и проклинала, и ползал я, можно сказать, у нее в ногах. Глянет — стоишь, молнией пораженный. А язычок, язычок! Она тебе в ребра и в печень, а ты улыбаешься, слушаешь: наслажденье!»
Как‑то ночью Гимпл неожиданно возвращается домой и застает мужчину в постели с Элькой. Это уже слишком, и он уходит от нее. Но озорники в городе на ее стороне, изводят его, и Гимпл начинает сомневаться: не померещился ли ему мужчина.
«Такое бывает, вроде вот оно: зверь какой или человек, а подойдешь — никого! И тогда, значит, зря я грешил на нее и ее же позорил… И, вот так размышляя, начинаю я плакать. Рыдать. Мешки под щекой намокли. А с утра опять к ребе: ошибка».
Элька опять родила, и «весь Фрамполь упивался позором моим. Но я уже решил про себя: верить. Верить всему и всегда! Из неверия ничего путного не выходит: сегодня не веришь жене, завтра разуверишься в Б‑ге».
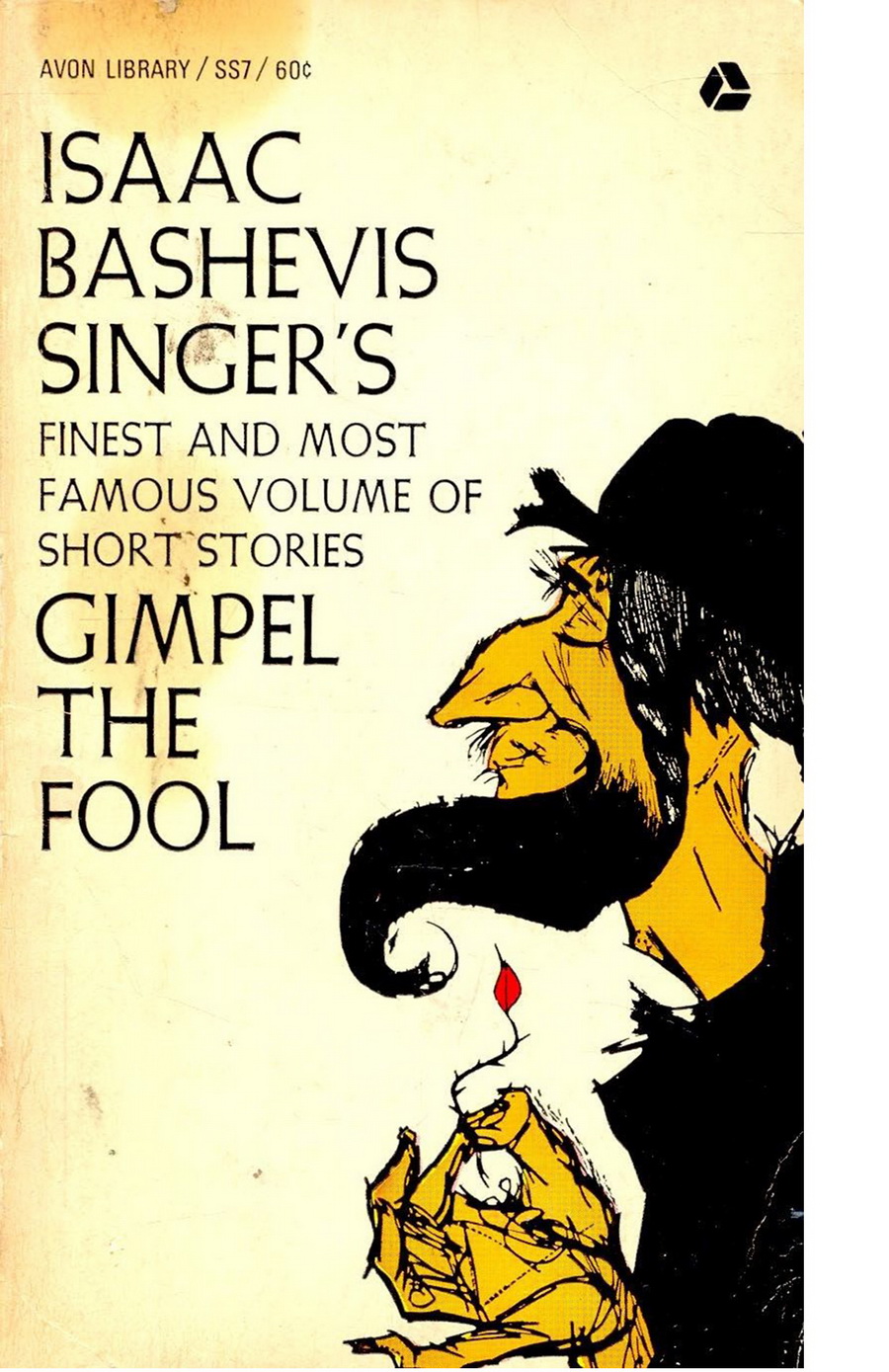
Даже его суеверия — Зингер использует местных духов и бесов как драматические мотивы — становятся символами его простодушного уважения к миру. Однажды поздним вечером, заквасив тесто, он берет свою долю выпечки, мешочек муки и отправляется домой.
«В небе круглая светит луна, звезды сверкают. Я шагаю, а впереди бежит моя тень. Дело было зимой, накануне снегу насыпало. Иду я — и хочется петь. Однако час поздний, не будить же людей! Стал я что‑то насвистывать, вдруг вспоминаю: нельзя, бесов к ночи накличешь. Пошел молча».
Он приходит домой и застает жену в постели со своим подмастерьем. И, что характерно, не бушует, а страдает: «Луна померкла. В глазах темно. Руки‑ноги дрожат». Что характерно, он подчиняется жене, когда она посылает его проведать козу, и, что характерно, с нежностью заботится о ней как о родном существе. Возвращается в дом, подмастерье исчез, жена все отрицает, кричит, что все ему привиделось, ругает последними словами. «Братец» ее бьет его по затылку кулаком. А Гимпл: «Молчу, каша заваривается, вижу, крутая. Не хватает еще, чтоб по городу слава пошла, что я колтень, с нечистым спознался. “Ладно, — говорю, — не строй из себя неструганую. Все понятно, не поднимай шума. Кончили”».
Он примиряется с женой, и живут они вместе 20 лет. «Все в эти годы было, всяко случалось. Но я как оглох и ослеп. Не слышу, не вижу». Жена перед смертью подзывает его и говорит, что все их дети не его. Она умирает с усмешкой на белых губах, «как будто сказать хочет: “Ну как, здорово разыграла я этого дурня?”»
Теперь сам дьявол искушает его, говоря, что никакого потустороннего света нет. «А что же все‑таки есть?» «Есть… бездонная топь, болото». И, поддавшись дьявольскому наущению, Гимпл писает в тесто. Во сне к нему приходит покойная жена — он плачет от стыда за содеянное — и кричит ему: «Ты, Гимпл, дурень! Это ж если Элька тебя обманывала, весь белый свет виноват?»
Кончается траур по жене, Гимпл бросает дом и отправляется бродяжничать по земле; он часто рассказывает детворе истории с бесами, вурдалаками, невесть чем. Жена постоянно снится ему, он ее спрашивает, когда они снова соединятся; во сне она целует его и обещает, что скоро. «Иногда она даже целует меня, и ее слезы текут по моим щекам. Проснусь — губы соленые».
Последний абзац рассказа — умиротворенные размышления Гимпла перед смертью — необычайно красив.
Тут в сжатом виде все отношение евреев к Б‑гу, ставящее границы судьбе человека, — и это одно из самых трогательных изъявлений веры, мне известных. Но выражено оно легко, с остроумием, с очаровательной сдержанностью, так что может быть прочитано чуть ли не как хвала человеческой вере вообще.
«Все так: этот мир только в нашем воображении. Но он — отражение мира следующего, достоверного… Другой нищий, знаю, ждет не дождется занять мой матрас. Подоспеет миг — я уйду, даже с радостью. Что б там дальше ни сталось — будет взаправду, без шутовства, козней, измен. Там, слава Б‑гу, даже Гимпла обмануть невозможно».

Напрашивается сравнение этого рассказа со знаменитым «Бонче‑молчальником» Ицхока Переца. Там герою на небесах предлагается все, что угодно, а он скромно просит горячую булку каждый день со свежим маслом. Вспоминается и Тевье‑молочник Шолом‑Алейхема — он читает молитвы даже на бегу, когда гонится за шальной лошадью. Но благодаря своей неоднозначности проза Зингера говорит о нас гораздо больше, чем старые ритуальные восхваления еврейских добродетелей. Если Бонче и Тевье — чисто народные типы, лелеемые образы традиции, то Гимпл — хотя он и его жена символы в не меньшей степени — должен вернуть себе веру и возвращает: в видениях, снах, составляющих игривый, иронический фон этого замечательно тонкого рассказа.
Это внимание к снам, эту вечную неопределенность в отношении к Б‑жественному — наше поколение научилось уважать их после того как отвергло сперва ортодоксию, а затем и научный материализм. Утонченность миропонимания Зингера роднит его с остальным человечеством, наделенным воображением: человек верует, хотя знает, что вера его абсурдна, но, во что он верит, переходит, с одной стороны, в искусство, а с другой — в сомнения Гимпла, подозревающего порой, что он безумен.
Именно цельность человеческого воображения так прекрасно удается передать Зингеру. Его пример показывает, как много может извлечь художник из ортодоксального воспитания — в отличие от многих евреев, бормотунов и копиистов священного слова. Творчество Зингера произрастает из еврейского городка, из еврейской школы, из компактного (но не замкнутого) еврейского общества Восточной Европы. Но он не пользуется символами, которыми обмениваются столь многие современные писатели. Для Зингера не только его материал «еврейский» — еврейский его мир. И в этом мире он обрел раскрепощенность и универсальность — через свою веру в воображение.
В этом смысле он очень похож на Готорна , тоже выросшего в ортодоксии, против которой ему пришлось в каком‑то смысле восстать, чтобы вообще состояться как писателю. Только в еврейском писателе ХХ века можно увидеть параллель Готорну, сказавшему, что его предки были бы шокированы, увидев его сочинителем, но его ценности их бы не удивили. Зингер — пример необычайно свободного существования еврейского писателя во времени: демоны, духи, даже дураки принадлежат лесному прошлому, темной мифологической предыстории современной жизни.

По крайней мере, один его рассказ «Из дневника нерожденного» мог быть написан Готорном, потому что Зингера занимает та же тема искушения, что и Готорна, населившего леса Новой Англии ведьмами. Однако Зингер (в отличие от Готорна и большинства современных еврейских писателей) совершенно ясно дает понять, каковы его убеждения, и это свидетельствует о духовной ответственности, которой подчинена его проза. Евреев долго удерживали от искусства; поэтому интересно видеть, по крайней мере, у Зингера, как много уважения у него сохранилось к ортодоксии. Для него, по крайней мере, она то, что питает тайну искусства, — откровение истины, постигаемой через воображение.

Еврейская культура и интеллектуалы

Дар

