Роман тридцатых годов
Предлагаем вниманию читателей фрагмент послесловия известного американского писателя и критика Лайонела Триллинга к переизданию романа Тесс Слезингер «The Unpossessed» (букв.: «не одержимые», «не бесы», в названии аллюзия на роман Ф. М. Достоевского). Вышедший в 1934 году, роман Слезингер был переиздан в 1966‑м. В романе описаны становление журнала «Менора» и круг людей, формировавшихся вокруг него.
Свадьба проходила в зале собраний Общества этической культуры. Знаменитую школу этого общества, расположенную в том же здании на Сентрал‑Парк‑Уэст, Тесс в свое время посещала. И Солоу, и мне выбор места казался многозначительным. Членами Общества были не только евреи, хотя они и составляли большинство, а от Общества ожидали, что оно поможет аккультурации определенной группы евреев, хотя этот термин в то время если и существовал, то распространения еще не получил. Атмосфера в Обществе считалась в высшей степени тонной: респектабельность, безупречные манеры, оптимизм. Еврейские его члены были в своем большинстве выходцами из Германии, они легче расставались с реформистским иудаизмом, чем восточноевропейские евреи (их обычно называли русскими) с иудаизмом ортодоксальным. Тем, как далеко они продвинулись в аккультурации, немецкие евреи гордились, а восточноевропейские евреи и завидовали им, и недолюбливали их за то, что называли «культурностью». Все, что евреи ожидали получить от Общества этической культуры, Солоу и кое‑кого из его друзей отвращало. А когда мы стали сотрудничать с «Менора джорнал», этот антагонизм стал для нас вопросом принципа.

Обращаясь к этому замечательному журналу, я не слишком отвлекусь от Тесс Слезингер, поскольку она провела в его атмосфере весьма важную часть своей жизни и была многим обязана его ведущему редактору Эллиоту Коэну, что охотно признавала.
Необходимо пояснить, что тот «Менора джорнал», который я знал, не упомянут в обширной антологии, изданной в 1964 году под редакцией Лео Шварца в память о Генри Гурвице, основателе и главном редакторе журнала. Гурвиц и Коэн были люди разного темперамента и разных взглядов, а потому д‑р Шварц — из почтения к обоим — увековечил эту старинную вражду тем, что не включил в антологию ни одну из статей, которую мог бы заказать Коэн или на которую он мог бы повлиять. Ни один читатель этого умеренного, взвешенного, лишенного всяких эмоций, солидного тома не смог бы узнать, что в период между 1925 и 1929 годом «Менора джорнал» публиковал рассказы, эссе и критические статьи группы ярких, одаренных молодых авторов, которые считали это издание естественной платформой для своих произведений и придавали ему дерзкую живость — чего никак не хотел его главный редактор.
«Менора джорнал» не появился бы на свет и не продолжал бы выходить, если бы не Гурвиц, который упорно настаивал, чтобы журнал финансировала еврейская община. Однако общаться с Гурвицем было затруднительно, во всяком случае людям молодым и умным. Он был недоверчивым и упрямым, туповатым и с невысокого качества чувством юмора и при этом тут же уходил в глухую оборону, хотя я совершенно уверен, что хотел он быть благожелательным и даже добрым. Коэн же был ему полной противоположностью. Личность сократическая, он притягивал к себе молодых людей, и наставлял их, и поддразнивал. Коэн бесконечно разглагольствовал, причем речи свои уснащал сплетнями — о людях, книгах, бейсболистах, футболистах, обычаях, нравах, комических актерах (здесь он был особенно сведущ), священнослужителях (в основном о раввинах, одного из которых как‑то раз назвал «истинно еврейским Стивеном Вайсом» ), колледжах, общественных науках, благотворительности, общественной работе, писательских стипендиях, ресторанах, портных, психиатрии… Такой осведомленностью он в немалой степени был обязан городу Мобайл, штат Алабама, где родился и вырос; Коэн был горд тем, что знает американскую жизнь, с которой нью‑йоркским еврейским интеллектуалам было не так‑то легко познакомиться, и дорожил — не менее искренне — своим сочувствием к тем, кто влачил обыденно банальное существование. И впрямь казалось, что в основе его интеллектуальной жизни нередко лежит сочувствие «простым людям»; он вполне осознанно умилялся их культурой — сейчас мы встречаем нечто подобное в сочинениях Ричарда Хоггарта и Реймонда Уильямса . Однако в то время его молодым друзьям такое отношение казалось чуть ли не чудачеством.

Коэн был лишь немногим старше самого молодого из нас, но его крупная красивая голова придавала ему вид человека в годах, и он с этим охотно мирился, никогда не пытаясь казаться молодым. Нас он то восхищал, то приводил в бешенство. Улыбался он редко, и эта улыбка буквально очаровывала, а если что‑то было ему не по нраву, он мрачнел, становился неприступным. Коэн вел себя то на редкость любезно, то беспримерно грубо. Никто — и уж точно ни один наш наставник — не был так внимателен к тому, что мы думаем и как пишем. Коэна часто называли непревзойденным редактором, и так оно и есть. Он давал нам задания, а когда мы их выполняли, возвращал, предлагая доработать, подробно указав на их недостатки. Со временем каждому из нас пришлось изобрести защиту от вмешательства Коэна в нашу работу. К написанному слову он относился с трепетом, больше всего хотел стать писателем, но писал с великим трудом и так, что написанное — если не считать писем и коротких ироничных текстов, которые он какое‑то время сочинял под псевдонимом Сионский мудрец, — не давало представления о его истинных способностях; в результате каждому из нас грозило стать инструментом для реализации его интеллектуальных устремлений. Тем не менее вначале его интерес к нашим сочинениям приносил только пользу.
Я познакомился с Коэном еще студентом последнего курса университета, когда он принял к публикации мой рассказ, на следующий год я свел его с Солоу. Их встреча оказалась плодотворной: вскоре Солоу стал заместителем Коэна, и между ними установились тесные, пусть временами и весьма конфликтные, отношения, и они не прерывались вплоть до смерти Коэна в 1958 году. Когда Тесс Слезингер вышла замуж за Солоу, она попала в круг учеников Коэна и, общаясь с ним, немало от него почерпнула, тем более что он относился к ней с большой теплотой, как и она к нему. Со временем, подобно другим подопечным Коэна, Тесс почувствовала, что ей пора работать без оглядки на него, однако, как я уже сказал, она прямо и постоянно говорила о том, как благодарна ему за помощь.
Общее ощущение еврейства — вот что связывало группу, сплотившуюся вокруг «Менора джорнал», вот что заставило тех из нас, кто пришел на свадьбу Солоу, возлагать большие надежды на Общество этической культуры. Ощущение это не имело отношения к религии — религиозными мы не были . Не имело отношения это и к сионизму — сионизм мы воспринимали скептически, а то и враждебно, и во время вспышек насилия в 1929 году кое‑кто из нас принимал сторону арабов. Наше ощущение еврейства скорее можно считать тем, что сейчас принято называть чувством аутентичности.
Если принять во внимание все, что нас вообще не занимало, слову «аутентичность» тоже не стоит придавать слишком большое значение, а кое‑кто мог полагать, что оно вообще ничего не значит. Уж если мы исключили из сферы своих интересов религию, а также сионизм со всеми сопряженными с ним общественными событиями в Европе и подъемом национального духа, вызывающим безусловное сочувствие, то к чему тогда можно отнести понятие еврейской аутентичности? Глядя на то далекое время, мы можем дать довольно неоригинальный ответ: мы имели в виду то, что и в наши дни называется «чувством идентичности», а это означает, если говорить о евреях, что в отдельности каждый еврей мгновенно и естественно осознает, что он еврей, и «принимает себя» как еврея, получает удовольствие от этой идентификации, гордится ею и в той или иной степени открывает для себя, что значит быть евреем. А из этого следует ощущение родства с теми, кто также признает себя евреем, а возможно, и стремление объединиться в той или иной форме на основе этого родства.
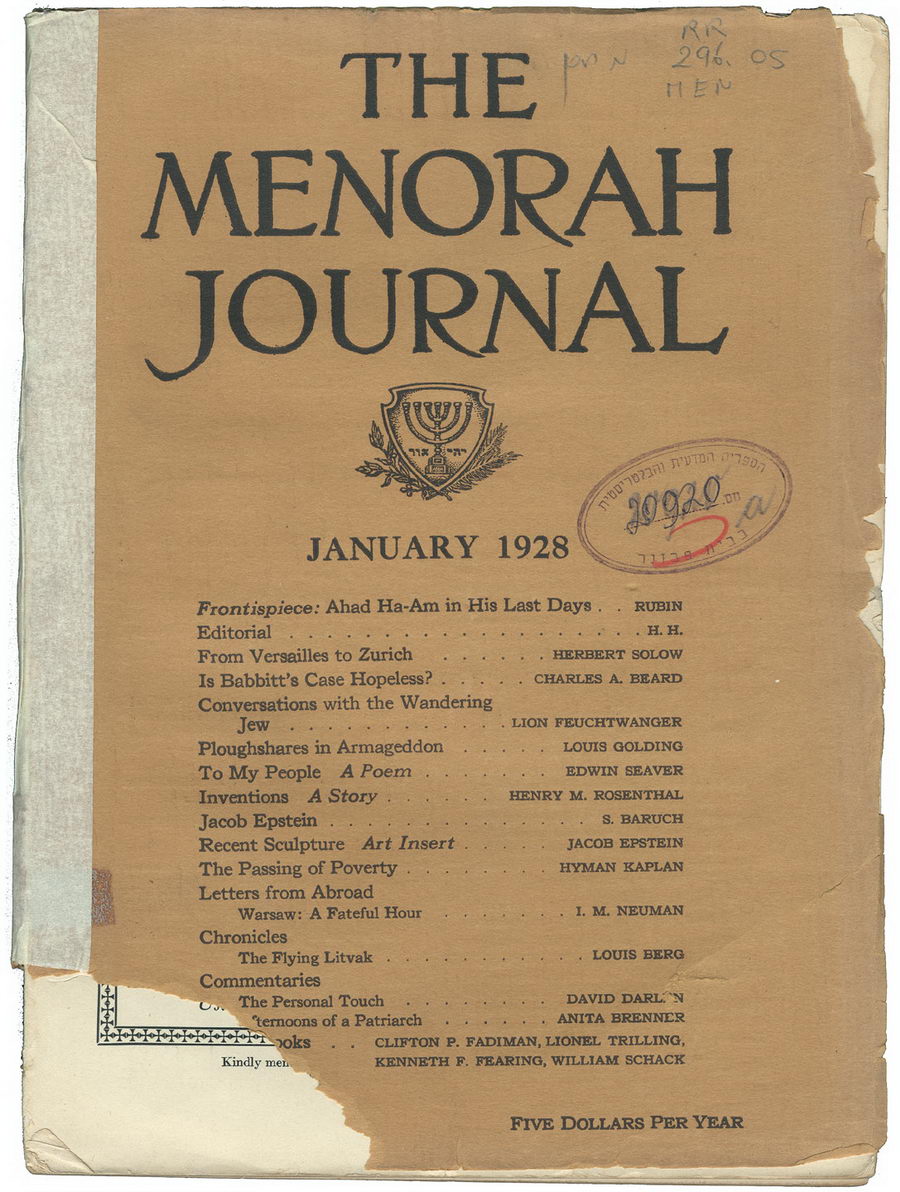
Точка зрения Коэна и его умных молодых приверженцев на этот предмет никак не противоречила взглядам Генри Гурвица, которого они считали чересчур педантичным и ограниченным. Гурвиц основал в Гарварде общество «Менора», чтобы помочь еврейским студентам, которые чувствовали себя там чужаками, пробудив в них интерес к прошлому евреев и гордость своей историей и уверив, что в их настоящем нет ничего ненормального и относиться к этому настоящему им нужно, не теряя достоинства: noblesse oblige. Мы преследовали те же цели, вплоть до noblesse oblige, хотя само это выражение нас отталкивало, однако шли к ним иными путями. Если речь шла о еврейском настоящем, мы стремились нормализовать его, утверждая, что оно ничуть не менее достойно уважения, чем настоящее любой другой людской общности, и что оно такое же глупое, грубое, нелепое, несуразное и многообещающее. Мы называли имена, обращали внимание на манеры и поведение. Мы писали бесконечные обзоры еврейской литературы, высмеивая приторное благочестие, которым грешили многие авторы, мы подтрунивали над еврейской жизнью, как это делал Коэн в своих «Заметках о современной еврейской истории» и «Замечаниях на полях», мы сочиняли веселые рассказы про современные нравы, в которых главными персонажами были слезливые евреи, как это делала Тесс, — и все с одной целью: сформировать сознание, которое помогло бы читателю активно, разумно и без страха справляться со сложностями жизни, ожидавшими еврея в американском обществе.
За прошедшие с той поры годы положение американского еврея так изменилось, что многим будет нелегко понять, зачем были нужны подобные усилия. Одной из неоспоримых примет нашего времени стало то, какую важную роль играют в американской культуре евреи. Такое положение дел стало постоянной темой научных изысканий и журналистских статей. Вот уже несколько лет, как в «Таймс литерари сапплемент» нет ни одного обзора американской литературы, автор которого не поражался бы тому, что без евреев литературный пейзаж Америки выглядел бы иначе; а иностранные студенты переключились с «новой критики» на «евреев в американской культуре». Евреи сплошь и рядом становятся главными героями современных романов, описание еврейской жизни уже никого не удивляет. Еврейские идиомы и словечки укореняются в английском языке . Наконец, насколько мне известно, никаких барьеров в университетах для евреев нет. Однако во времена, о которых я пишу, дело обстояло иначе. Еврейских литераторов было не так много, и они считали, что куда проще и естественней писать не о своей жизни. Крайне напряженной была и обстановка в университетах. Коэн, с блеском закончивший Йель, отказался от аспирантуры по английской филологии, поскольку понимал, что еврею никогда не стать преподавателем в университете. Когда я решил заняться наукой, друзья посчитали меня наивным до крайности, и они не вполне ошибались: меня назначили преподавателем Колумбийского университета в порядке, как мне недвусмысленно давали понять, эксперимента, и некоторое время моя карьера в университете напрямую зависела от того, что я еврей.
Разумеется, по сравнению с антисемитскими проявлениями, ту пору весьма распространенными, мой случай еще не самый плохой, тем не менее на многих он подействовал угнетающе. Евреям, желавшим свободно продвигаться в этом мире, давали понять, что их еврейство — тяжкое бремя. Нынче так неприглядно и неловко еврей, как правило, уже не реагирует на плохо замаскированные обвинения в свой адрес — теперь он не считает, что такие упреки в каком‑то смысле справедливы. Впрочем, молодых людей, группировавшихся вокруг «Менора джорнал», антисемитизм как таковой не особенно занимал. В большей степени их интересовало то, как он влияет на чувства и характер евреев, и это влияние они пытались хотя бы нейтрализовать.
Стремление создать очаг культуры, который помог бы евреям (в основном, разумеется, из среднего класса) «принять себя», сейчас первоочередной задачей не кажется: ведь положение евреев изменилось к лучшему, и понять, почему молодые люди, наделенные умом и силой духа, всю свою энергию направляли на это, трудно. И впрямь, наше рвение не объяснялось одним только желанием излечить евреев от комплекса неполноценности, хоть мы и считали, что это существенно для нашей цели. Главным для нас было, что мы нашли реальное дело и все в той или иной мере в нем участвовали. Что до антисемитизма, с которым мы сталкивались, то он негодования в нас не вызывал отчасти потому, что мы видели в нем некую пользу: ведь именно этот социальный антагонизм помогал нам определить и себя, и наше общество и понять, кто мы и кем хотим стать. Антисемитизм помогал придать нашей жизни видимость реальности.
На молодых людей 1920‑х годов интеллектуальная и культурная атмосфера действовала разлагающе. Окружающей тупости они могли противопоставить разве что свой интеллект, а банальности американского материализма — утонченную духовность. Обо всем этом Менкен уже написал, и добавить мне нечего. Я читал «Нейшн», «Нью рипаблик», «Фримен» и надеялся, что со временем смогу ответить на их велеречивый либерализм чем‑то большим, чем смутное согласие в общих чертах. Я увлекался Уэллсом и Шоу, однако мне казалось, что они сочиняют занятные, но явно неправдоподобные истории о юных правителях‑философах , которые требуют, чтобы признали их богоданное право на власть. Помню, в университетские годы я только и делал, что искал какую‑нибудь общественную организацию, которой мог бы довериться и с которой мог бы ощущать сродство. Но на самом деле я, пожалуй, действовал не так осознанно, как следовало, — иначе говоря, в то время я маялся от скуки и пустоты жизни, поскольку основы, которая помогла бы мне составить представление, что такое наше общество, у меня не было.
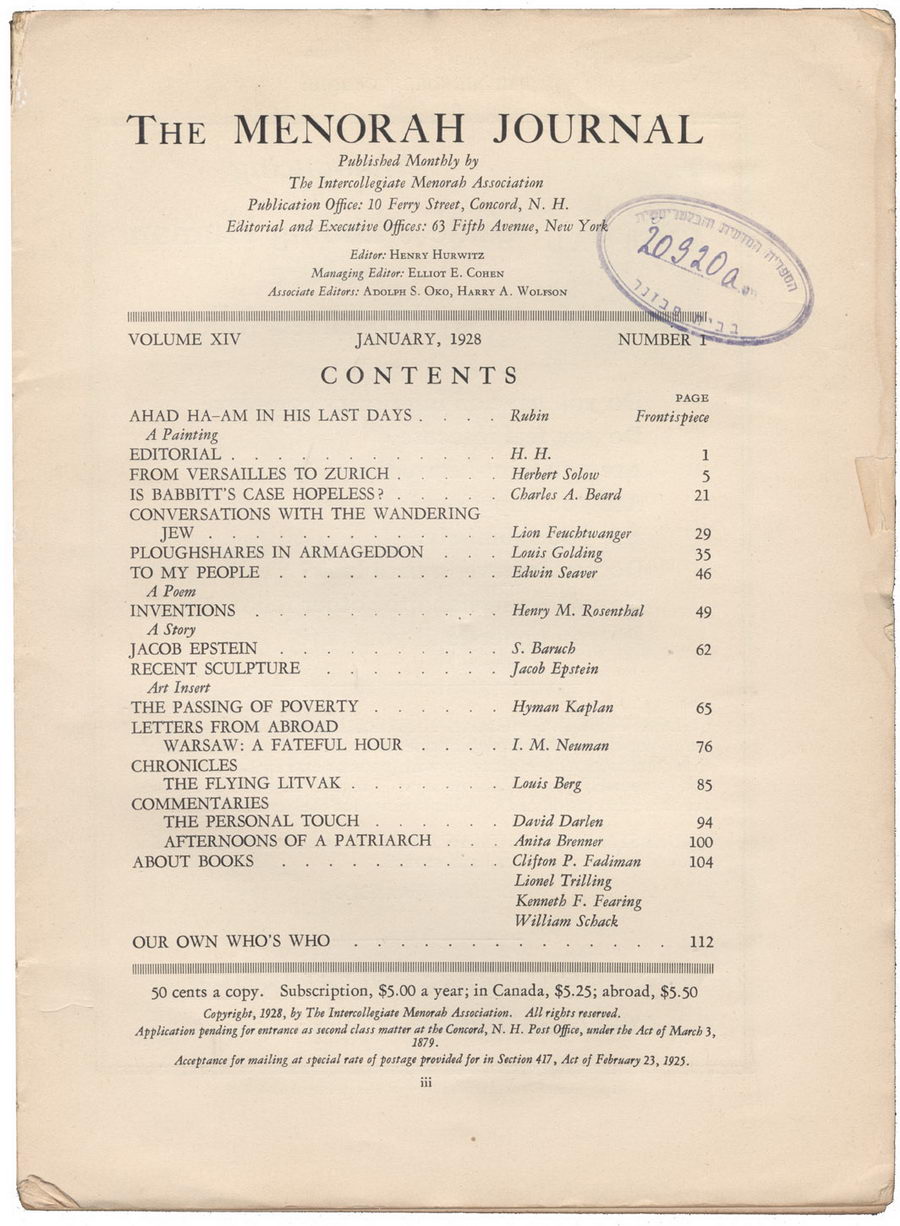
«Менора джорнал» открыл мне глаза на положение евреев, и это помогло мне наконец‑то представить, что такое наше общество. Что такое Америка, о которой я бы не имел представления, попытайся я понять эту страну с помощью Менкена, или Герберта Кроули , или, если уж на то пошло, Генри Адамса . Неожиданно я смог — более того, я был должен — размышлять в категориях жизненных и делающих актуальными те предметы, о которых идет речь. К примеру, нельзя бесконечно долго размышлять о евреях, не осознав, что речь идет об определенной социальной группе. Такой подход необходим не просто для того, чтобы рассматривать евреев в их связи с обществом в целом, но и чтобы рассматривать евреев как евреев, при этом в первую очередь следовало признать, что классовые различия между ними так велики и так сложно соотносятся с понятием еврейства, что поначалу именно они занимали и интересовали нас больше всего.
По крайней мере, некоторых из нас классовые различия очень занимали. И именно они еще за несколько лет до того, как получили политическую окраску, определяли наши взгляды и оценки, часто довольно горькие. Однако политика не заставила себя ждать. Обвал фондового рынка в 1929 году и последовавшая депрессия привели к тому, что «Менора джорнал», такой, каким мы его знали, прекратил существовать. Денег, чтобы издавать журнал ежемесячно, не хватало, и он стал выходить худо‑бедно раз в квартал. В 1932 году Коэн ушел с поста главного редактора, и долгую и безрадостную борьбу за выживание журнала, которая кое‑как продолжалась до 1947 года, начал Гурвиц. А молодые авторы журнала обратились к типичному для того времени радикальному марксизму. 

Еврейский вопрос у Лайонела Триллинга

Рассказы Исаака Бабеля

