Материал любезно предоставлен Mosaic
Предлагаем вниманию читателей десятый очерк в серии эссе Гилеля Галкина о великих ивритских писателях XIX — начала ХХ века. Предыдущие девять очерков были посвящены писателям Йосефу Перлу, Аврааму Мапу, Перецу Смоленскину и Йосефу‑Хаиму Бреннеру, поэтам Йегуде‑Лейбу Гордону, Хаиму‑Нахману Бялику и Рахели Блувштейн, эссеистам и сионистским мыслителям Ахад ха‑Аму и А. Д. Гордону, а также писателю, журналисту и интеллектуалу Михе‑Йосефу Бердичевскому.

Вкус Агнона
Яаков Малков был хасидом Хабада и немного писателем. День, когда появлялась статья его в газете «Хавацелет», был великим днем для него. Ведь у этой газеты много читателей, и его статья будет прочитана большой аудиторией. Так как он страдал хрипотой, то выбрал для себя жизнь в Яффе, а не в Хевроне и не в Иерусалиме, море — хорошо для горла. Яффа не принадлежит к святым городам, и жители ее не получают халуку, но обязан еврей содержать жену и детей, поэтому открыл он отель. И три комнаты было у него: столовая, и комната для постояльцев, и комната для себя и домочадцев. А в сезон, когда много отдыхающих, расстилает он циновки на дворе, переселяется туда и сдает свою комнату купальщикам, приезжающим из Иерусалима .
* * *
С заходом солнца возвратились рабочие с работы, грязные, выпачканные в известке, пыли и песке. Положили они свои рабочие принадлежности и пошли: один — вымыть лицо и руки, а другой — смочить горло стаканом газировки; один роется у окна, ищет, нет ли там письма для него, а другой — взял «Хавацелет» и стал читать. Увидел один из них Бреннера, подбежал к нему и протянул ему руку. Сжал Бреннер его руку в своей руке и посмотрел на него с любовью, как человек, которому хочется одарить его, но нет у него ничего, кроме доброго взгляда. Шепнул он рабочему: «Попроси себе стакан чая». Ответил тот ему, как бы очнувшись, будто открылось вдруг, чего именно ему недоставало: «Сейчас же я закажу себе стакан чая». Но не пошел он заказывать себе чай, тяжело ему было расстаться с Бреннером, с которым так неожиданно встретился.
Облачился Малков в свой длинный и тяжелый плащ, доходящий до пола, и надел на голову шляпу, предназначенную для молитвы и для любого другого дела, связанного с исполнением заповеди, и сказал: «Если бы мы удостоились, могли бы молиться здесь все вместе, теперь, раз мы не удостоились, я покидаю вас и бегу в синагогу». Товарищи наши, счастливые, что сидят рядом с Бреннером, сказали: «Помолись также о нас, рабби Яаков!» Повернул к ним Малков голову и сказал: «Будет неплохо, если человек сам помолится о себе».
* * *
Вошел Малков торопливо и воскликнул радостно: «Добрый вечер, друзья! Добрый вечер!» Снял свой тяжелый плащ и повесил на гвоздь в стене, снял шляпу с головы и погладил ее любовно. Увидел жену, стоящую в комнате, и прикрикнул на нее: «Стоит себе и вещает как проповедник, возвращайся к своим кастрюлям, жена, и не суй свой нос не в свои дела. Йосеф‑Хаим, ты ведь пообедаешь тут?» — «Нет, не пообедаю», — ответил Бреннер. Сказал Малков: «Небось, эта женщина напугала тебя, что нечего тут есть? Деликатесы, которыми ее кормили отец и мать, стоят перед ее глазами, и она убеждена, что все евреи нуждаются в деликатесах. Сядь, брат мой, и поешь с аппетитом. И ты, Хемдат, кусок рыбы готов для тебя, дай Б‑г, чтобы удостоился ты в будущем мире хотя бы тени хвоста ее. Мапко, ты свой человек здесь, сбегай к Азулаю и принеси мне штук сорок–пятьдесят яиц». (Мапко — это Горышкин, которого называл так Малков по имени Авраама Мапу за то, что тот пишет рассказы.)
Сказал Янкеле‑маленький: «Рабби Яаков, я схожу». Сказал Малков: «Сядь на свое место, коген ты, а я не пользуюсь услугами когенов. В бейт мидраш ты не пошел и кадиш не сказал. Не заслужил твой отец, чтобы ты потрудился для него? Один кадиш я похитил у скорбящих. Завтра пойдешь сам читать кадиш». И тут повернулся Малков к Бреннеру и сказал: «Я знал его отца, мир праху его. Он был рабочим, служил Всевышнему и обрабатывал землю. Кусок земли был у него в Хедере, и он умер на ней от желтой лихорадки. Когда он заболел и решили перевезти его в другое место, он не захотел. Сказал: “Не земля убивает, и не лихорадка убивает, а уход с земли убивает”. Умирая, показал он пальцем на свою землю и сказал: “Стыд и позор нам, что оставили мы Эрец”. И ты, Полышкин, положи “Хавацелет”! Хочешь посмеяться — читай газету Бен Йегуды. Или ты боишься, что юмор там идет от идолопоклонства? Йосеф‑Хаим, ты — новый человек в Эрец и не знаком с мудростью ее “мудрецов”. Пожалуй, я расскажу тебе кое‑что».
Бреннер не любил ничего слушать про Бен Йегуду, ни хорошего, ни плохого, но из уважения к хозяину дома, дабы не показалось, что он пренебрегает беседой с ним, он не заткнул свои уши, но закрыл глаза; так поступают впечатлительные люди, у которых все их чувства отражаются в глазах.
Сказал Малков: «Когда создал профессор Шац свой “Бецалель”, наступила Ханука, которую еще называют праздником Маккавеев. Собрались все на вечеринку. Поставили там статую Матитьягу, первосвященника, поднявшего меч и готового пронзить им разбойника, заколовшего свинью на жертвеннике, который соорудили по приказу злодея Антиоха. Всю ночь они кутили и обжирались. На следующий день поместил Бен Йегуда в своей газете похвальную статью о вечеринке, однако не мог успокоиться по поводу той самой статуи, которую они установили в зале, потому что Матитьягу был фанатиком своей веры, своей веры, а не своей земли. Ведь когда захватили греки нашу землю, и грабили, и разбойничали, и убивали, и разрушали города и деревни, сидел Матитьягу со своими сыновьями у себя в городе Модиине и пальцем не пошевелил, но как только подняли греки руку на религию, как сказано в молитве, чтобы “заставить позабыть вас Тору Твою и отвратить от законов Твоих, бросился подобно льву он и герои‑сыновья его и т. д., и установили в честь этого события восьмидневный праздник”. “А сейчас, — говорит Бен Йегуда в своей статье, — а сейчас я не уверен, что было бы с нами в тот вечер, когда мы собрались вчера в его честь. Если бы вдохнули в его статую живую душу или если бы он был жив, не проткнул бы он нас всех вместе мечом, вложенным в его руку, и не поднял бы он всех нас на жертвенник?”»
Все это время сидел Бреннер с закрытыми глазами, как будто так он лучше видел перед собой все, о чем рассказывал Малков. Когда закончил Малков свой рассказ, раскрылись у Бреннера глаза, и затрясся он от смеха. Крикнул Горышкин: «Ложь, Малков, ложь!» Зажал Малков свою бороду и сказал: «Мапко, замолчи. Оттого что привык ты к ереси и отрицанию, отрицаешь ты даже слова Бен Йегуды». Схватился Бреннер за край стола, чтобы не упасть от смеха. Как только отошел он немного от смеха и успокоился, принялся снова хохотать и сказал: «Вульгарный человек я. Извините, друзья, за этот дикий хохот».
* * *
Ночь была чудесная, как большинство ночей в Яффе, когда нет хамсина. И от моря, того самого моря, что защищает нас от зим пустыни, поднимались волны аромата, насыщенного влагой. Песчаная земля затвердела и излучала свет; не беспокоила гуляющих, напротив, хороша была, как обычно бывает она хороша по ночам. И как легка и удобна была земля у них под ногами, так легко было на душе у наших товарищей. Каждый поел в свое удовольствие и знал при этом, что в силах заплатить за обед. Уже миновали тяжелые времена, когда у нас подгибались ноги, не было сил таскать их, были мы голодны, не находили мы работы, ведь хозяева отдавали нашу работу арабам, а нам не давали заработать даже на кусок черствого хлеба. В конце концов вынуждены были яффские функционеры передать строительство школы в руки наших товарищей; и все те, кто отказывал нам в работе, утверждая, что не можем мы соревноваться с мастеровыми других народов, признали, что работа наша хороша. Штифен посмотрел и признал, что она хороша, Урбан посмотрел и признал, что она хороша. Сейчас собирается товарищество «Ахузат Байт» возводить свои дома, и оно тоже передаст строительные работы еврейским рабочим. И уже поместил Акива Вайс, основатель этого общества, объявление в газете «Хапоэль Хацаир», которое приглашает подрядчиков предъявить свои условия. Кто бы мог подумать, что споры и трения к чему‑то приведут. Люди, бежавшие в Эрец‑Исраэль от нужды и преследований, сидевшие на своих узлах как эмигранты и тем самым только поднимавшие дороговизну, люди, которые смотрели вслед кораблям, уходящим за границу, и думали о том, когда же и они поплывут на них? Люди эти набрались сил и мужества и подставили свое плечо вместе со строителями нашей страны, так что не видно уже разницы между теми, кто прибыл устроиться, и теми, кто прибыл строить. Даже члены общества «Давайте покажем Хисину!» (доктору Хисину, представителю «Ховевей Цион», который не соглашался платить им деньги зря), признали, что не нужно заниматься склоками, а надо работать. Все деятели ишува приняли личное участие в строительных работах и во главе их — Дизенгоф, а он обсуждает каждый вопрос и каждую проблему со всей серьезностью и основательностью. Пока что мы строим шестьдесят домов. Шестьдесят домов это не шестьдесят городов, но так как мы не претендуем на великое, малое для нас — тоже великое.
* * *
Бреннер не разделяет их радость. «Чему тут радоваться? И даже если строим мы шестьдесят домов, разве уже ухватились мы за хвост осла Машиаха? Всегда евреи строят дома. Есть один кредитор в Лодзи, так у него больше домов, чем вся эта строительная компания построит, и не делают из него избавителя Израиля. Только тот — строит за пределами Эрец, а эти — строят в Палестине. Иерусалим тоже возводит дома и кварталы. А что дадут и что добавят все его дома и все его кварталы, кроме изобилия лодырей и бездельников, льстецов и лицемеров, сеятелей раздора, которые поедают хлеб халуки и всю жизнь надеются на милость своих братьев, на великодушие народа Б‑га Авраамова, на евреев рассеяния, сидящих на горшках с мясом и делающих гешефты?! Быть может, швырнут им кости, чтобы грызть их расшатанными зубами, а за это они будут молиться за своих благодетелей у Стены Плача и в других святых местах, дабы Г‑сподь, Благословен Он, послал им благословение и удачу во всех их делах в мире этом и в мире ином. Одно лишь должны мы делать: обрабатывать землю и выращивать хлеб. Но поскольку не слышен голос плуга, постольку и не находится многих, желающих идти за ним. В итоге, создают здесь новое изгнание, изгнание среди потомков Ишмаэля, и при этом считают себя посланцами нации, избавителями Израиля. Однако народ не знает их и не жаждет узнать их. Только небольшая группа людей, которым не хочется работать и лень думать, идет за ними, как стадо в долине. Ведь они все еще не избавились от гипноза блестящего прошлого и надеются на хорошее будущее — сделают свою работу руками арабов, а сами будут сидеть у себя дома и пить чай Высоцкого. Кроме билуйцев, все здесь одни слова, слова, слова… Янкеле, что сказал твой отец перед смертью? Позор нам, что оставили мы землю. Потому что “оставили мы землю” это самый ужасный позор и это оплакивает Писание. Расскажи нам немного о жизни твоего отца, Янкеле».
Янкеле залился краской и молчал. Опустил Бреннер руку ему на плечо и посмотрел на него ласково и с любовью. Набрался тот мужества и начал: «Я не знал отца: когда стала желтая лихорадка убивать, вывезли нас из Хедеры и привезли в Зихрон‑Яаков. Но одно я слышал. Однажды спросили моего отца: “Доволен ты, рабби Исраэль, своей жизнью в Эрец‑Исраэль?” Сказал отец в ответ: “Я мог бы быть доволен, только не хватает мне здесь одного. За пределами Эрец, когда шел я молиться, попадались мне навстречу городские полицейские и другие злодеи из гоев. Один давал мне оплеуху, а второй плевал мне в бороду, а третий смотрел на меня с презрением, и знал я, что я — в изгнании, и когда молился — молился с разбитым сердцем в глубоком смирении. А здесь, евреи живут на своей земле, нет полицейского и нет изгнания, возгордился я, и стыдно мне стоять перед моим Создателем в своей гордыне”». Упал Бреннер на шею Янкеле и принялся декламировать: «Подойдите, дети, послушайте меня, Торе Г‑спода научу я вас!»
* * *
Ночь была так хороша, и море было чудесное, и беседа с Бреннером была чудесная. То, что сказал Бреннер… Так думали многие из товарищей наших в прежние годы, годы, когда не давали нам работу, и мы ходили без дела, и не видели куска хлеба. Теперь, когда человек трудится и зарабатывает, похожи были наши друзья на того, кто сожалеет о том, что все это его не так уж волнует, не разрывает ему сердце. Но при этом каждый думал о своем: кто — о том, как справить себе новую одежду, кто — как привезти свою подругу в Эрец‑Исраэль, а кто — на чем сэкономить, чтобы собрать деньги на отъезд за границу, чтобы учиться там в университете. А Ицхак, наш приятель, о чем мечтал? Ицхак, наш друг, мечтал о Шифре.
* * *
Была глубокая ночь. Шум моря изменился, волны его покрылись пеной. Подул прохладный ветер, и все углубления на песчаном берегу стали наполняться водой. Смотрел Бреннер на море, пытаясь удержать в памяти хоть что‑нибудь из его могучего великолепия. Ослабели у него руки, и он схватился за руку Хемдата, подобно тому, как хватается он за перо, пытаясь выразить мысль еще не ясную ему самому, и сказал: «Пора спать». Сказал Подольский на идише: «Да, надо нам пойти домой», и подчеркнул это слово «домой», и засмеялся, ведь нет здесь человека, у которого есть «дом». Пропел Бреннер в ответ тоже на идише: «Дети мои, надо нам пойти домой!» Когда ушел Бреннер и с ним Хемдат, почувствовали все, как они устали. Попрощались друг с другом и пошли себе, кто — к себе в комнату, а кто — к своей койке в дешевых гостиницах в Неве‑Шалом.
Добро пожаловать в ишув
Приведенные фрагменты взяты из большого романа Шмуэля‑Йосефа Агнона «Тмоль Шильшом». Действие романа, вышедшего на иврите в 1945‑м, разворачивается в 1908–1910 годах в Яффе и Иерусалиме. Его главный герой Ицхак Кумар — молодой эмигрант, приехавший в Палестину из австрийской Галиции, как и сам Агнон, со Второй алией (1904–1914 годы). В отличие от сионистского идеала халуца, Ицхак не трудится на земле. За несколько лет до сцены в пансионе Яакова Малкова, только приехав в Палестину, он мечтал заниматься сельским хозяйством, но все сложилось иначе. Ицхак оказался в Яффе, а не в общине первопроходцев вроде Дгании или Кинерета, и стал маляром. Он неплохо зарабатывает, особенно теперь, когда приток еврейских мигрантов в конце первого десятилетия нового века вызвал строительный бум. Один из признаков этого бума — проекты по строительству на песках к северу от еврейского квартала Яффы Неве‑Шалома, будущего Тель‑Авива.
Ицхак не живет в дешевом пансионе вроде того, что содержит Малков. В отличие от большинства своих друзей, тоже приехавших со Второй алией, он может позволить себе снимать отдельную комнату. Почти все они, как и Ицхак, недавно приехали в Палестину из Восточной Европы; большинство из них выросли в религиозных семьях и отказались от религии; большинство одиноки, и не похоже, чтобы они могли завести семью в обозримом будущем. Мало кто из них способен содержать семью, даже если они и могли бы найти себе женщину, а это нелегко, потому что мужчин среди них гораздо больше, чем женщин. И в этом отношении Ицхак — исключение среди них. Хотя он застенчив с женщинами, у него романтические отношения с молодой эмигранткой Соней Цвайринг, а в момент описанного вечера у Малкова он влюблен в Шифру, единственную дочь рабби Файша, религиозного еврея из иерусалимского ультраортодоксального квартала Меа Шеарим.
Хотя Ицхак мечтает жениться на Шифре, брак между ним и дочерью члена Старого ишува (так называется антисионистская ультраортодоксальная община Палестины) практически невозможен. Даже познакомиться они смогли только в результате маловероятного стечения обстоятельств. Постучавшись однажды в дверь, чтобы попросить стакан воды, Ицхак, переехавший из Яффы в Иерусалим, встречает пожилую пару, с которой он вместе приплыл на корабле в Палестину. Это дедушка и бабушка Шифры, которые остановились у своей дочери Ривки, жены рабби Файша. Они приглашают Ицхака в дом, он разговаривает с ними, а потом приходит еще раз и знакомится с их внучкой. Он сражен ею, как Адам, когда Б‑г «поставил перед ним Хаву».
Ничего из этого не случилось бы, будь рабби Файш в это время дома, потому что даже если бы он стерпел бы присутствие Ицхака в первый раз, второй раз он бы уже не пустил его в дом. Но вскоре после этого с Файшем случается внезапный удар, он лишается дара речи и остается в полукоматозном состоянии. Теперь Ицхак может продолжать приходить к нему в дом, предлагая помощь женщинам, оставшимся без кормильца. Соседи сплетничают. Ривка благодарна Ицхаку за помощь, но хотя она придерживается менее радикальных взглядов, чем ее муж, ей происходящее тоже не нравится. Неспокойна и Шифра. Она еще очень молода, и хотя ее влечет к Ицхаку, она не в состоянии осознать происходящее между ними. Когда они однажды встречаются на улице и Ицхак, понимая, что они одни, пытается взять ее за руку, на что не осмелился бы юноша из Меа Шеарим, она в страхе убегает. Но он не просто решительно настроен жениться на ней — он возвращается в Яффу и просит Соню освободить его от всех обязательств перед ней. Удивленная тем, что он вообще считает, что у него могут быть перед ней какие‑то обязательства (их короткий роман значил для нее гораздо меньше, чем для него), Соня заверяет Ицхака, что он свободен — именно в этот момент мы встречаем его у Малкова.
Ирония происходящего заключается в том, что никто не знает, что именно Ицхак виновен в болезни рабби Файша. Как‑то в конце рабочего дня к нему подбежала бродячая собака, и он шутя написал краской на ее шкуре на иврите «сумасшедшая собака» (келев мешуга). Распространяются слухи о том, что по городу бегает бешеная собака, и начинается паника. О собаке говорят повсюду, о ней пишут газеты, все время сообщают, что ее видели в разных местах. Ее замечает директор французской школы, который не знает, что буквы в ивритском слове «келев» нужно читать справа налево, и говорит, что собаку зовут Балак. Это имя царя моавитян из книги «Бемидбар», который нанимает прорицателя Валаама (Бильама) проклясть еврейский народ. И вот пес, которого теперь зовут Балак, внезапно появляется перед рабби Файшем из Меа Шеарим, и тот так пугается, что у него в мозге лопается сосуд.
Любовь и другие эмигрантские печали
Ицхаку, старшему сыну в семье, было 19 или 20 лет, когда он покинул галицийское местечко и уехал в Палестину, о которой у него были весьма наивные и идеалистические представления. С детства он жадно поглощал ивритскую и сионистскую литературу и рассказы о сельскохозяйственных колониях Первой алии. Его влечет романтический образ Земли Израиля. Первый абзац романа «Вчера‑позавчера» состоит из шаблонов, которыми набита его голова:
Подобно остальным нашим братьям из Второй алии, несущей нам избавление, оставил Ицхак Кумар страну свою, и родину свою, и город свой, и отправился в Эрец‑Исраэль отстраивать ее заново, и поселиться, и обосноваться в ней. С того самого момента, как Ицхак, товарищ наш, себя помнил, не проходило дня, чтобы он не грезил о ней. Благословенной обителью представлялась ему вся эта земля, а жители ее — людьми, благословенными Б‑гом. Поселения ее прячутся в тени виноградников и оливковых рощ, на полях изобилие хлеба, деревья увенчаны плодами, долины полны цветами, леса трепещут на ветру, и все дома полны ликованием. Весь день жители ее пашут, и сеют, и жнут, и сажают деревья, и собирают виноград и маслины, и жмут масло, и давят виноград, а с наступлением вечера усаживается каждый под своей лозой и под своей смоковницей, как в раю, и жена, и сыновья, и дочери его сидят вместе с ним и радуются трудам своим и дому своему, а время, прошедшее вдалеке от Эрец‑Исраэль, вспоминают, как вспоминает человек в счастливые мгновения горькие дни, и наслаждаются вдвойне. Мечтателем был Ицхак, и все мечты его были о стране, куда звало его сердце.
Хотя Ицхак избавляется от иллюзий лишь постепенно, этот процесс начинается сразу же после прибытия в Палестину, как это было с лирическим героем романа Й.‑Х. Бреннера «Со всех сторон». Он сходит на берег в Яффском порту, крикливые арабские грузчики дерут с него втридорога, и вдруг его багаж хватает еврей, который зовет его за собой.
Повел он его улицами и переулками, дворами и закоулками… Солнце шпарит сверху, а песок жжет снизу. Плоть Ицхака — огненное пламя, и жилы его — пламенеющий огонь. Горло его хрипит, и язык — как лепешка, и губы пересохли, и все тело — сосуд, полный пота… Привел его этот человек в какой‑то двор и ввел в мрачный дом, полный мешков, и свертков, и пакетов, и корзин, и ящиков, и коробок, и множества других пожитков, и сказал ему: «Уже накрывают на стол и вот‑вот пригласят господина отобедать». Нащупал Ицхак те самые письма, в которых написали о нем наши предводители в Лемберге; надо показать их хозяину дома, дабы тот убедился, что не ошибся в нем.

Это комический эпизод. В неуместном пиджаке и галстуке, терзаемый жуткой ближневосточной жарой, Ицхак, который привез с собой рекомендательные письма от сионистских деятелей из Галиции в надежде, что они произведут впечатление в Палестине, считает, что еврей привел его в свой дом из братского гостеприимства. Но на самом деле…
Хозяин дома не ошибся в Ицхаке, зато Ицхак ошибся в хозяине дома. Дом этот служил заезжим двором, а хозяин дома был хозяином заезжего двора и старался он для Ицхака только с одной целью — получить с него плату за кров и стол… Смирился Ицхак и принял все с любовью. Сказал себе Ицхак, завтра я выхожу в поле, и не нужны мне эти деньги, привезенные из изгнания, и не важно, много взяли с меня или мало.
Эта иллюзия тоже быстро развеивается. На следующий день Ицхак отправляется в Петах‑Тикву, крупнейшую еврейскую сельскохозяйственную колонию в стране, и ходит от дома к дому в поисках работы. Но работы нет. Большинство землевладельцев — арабы, и если работа для евреев и есть, то ее давно расхватали. Но и теперь он старается смотреть на вещи с оптимизмом. Жена крестьянина отправляет его к соседу, а Ицхак обнаруживает, что соседний дом брошен. Но он не желает признавать, что над ним посмеялись. Он думает: «Как странно, дом покинут хозяевами, а его соседи — не знают».
Но его доверчивость в конце концов идет ему на пользу. Однажды, оставшись без гроша, он засыпает на скамейке в парке Немецкой слободы Сарона. Местный житель, приняв его за рабочего, который заснул во время перерыва, будит его, вручает ему ведро с краской и кисть и велит приниматься за работу и покрасить забор. Вместо того, чтобы ответить ему: «Сам покрась», Ицхак беспрекословно подчиняется, и в конце дня хозяин платит ему за работу и велит приходить назавтра. Так он делает первые шаги в профессии, которая приносит ему уверенность в завтрашнем дне и статус в мире молодых безработных эмигрантов. Хотя поначалу другой маляр называет его пачкуном, постепенно он осваивает новое ремесло и приобретает опыт.
Сочетание невинности и упорного трудолюбия возбуждает интерес Сони. У нее, в отличие от Ицхака, есть сексуальный опыт, и ее привлекает невинный юноша, которого не так‑то просто покорить. У него изящные манеры и хорошее платье, он может позволить себе угостить ее кофе или мороженым, и он не исчезнет на следующем корабле, уходящем из Яффы, как ее прежний друг Едидья Рабинович. Ицхак тоже дружит с Рабиновичем, и, провожая его в Яффском порту, он впервые заговаривает с Соней. Описание их встречи — прекрасный пример того, что израильский критик Ница Бен‑Дов называла «искусством уклончивости» Агнона, его великолепным умением описать персонажа и ситуацию двумя словами, которые читатель может и не заметить. Ицхак и Соня возвращаются на берег, распрощавшись с Рабиновичем на борту уходящего корабля.
Осенняя тишина, закутанная в прохладу, объяла все вокруг. Пространство как бы сжалось, и запахло морем и гнилыми апельсинами. Ицхак и Соня шли и молчали, пока не вышли из песков порта и не вступили на городскую улицу. Остановилась Соня и купила себе букет жасмина, понюхала, заложила его за спину и сказала: «Почищу‑ка я себе ботинки». Поставила одну ногу на ящик чистильщика обуви и приподняла подол платья. Выпрямил чистильщик ее ногу и погладил ботинок. Взял волосяную щетку, плюнул на нее, ткнул в гуталин и начал чистить, пока ботинок не заблестел как зеркало. Вспомнил Ицхак, как встала Соня на ноги Рабиновича и поцеловала его в лоб. Провел Ицхак рукой себе по лбу и заглянул внутрь ладони. Поставила Соня вторую ногу перед чистильщиком и велела ему, чтобы сделал все как можно лучше, будто эта нога — главная. Потом… что же было потом? — спросил себя Ицхак и ответил сам себе, — потом вытащил Рабинович шелковый платок и стряхнул им пыль со своих туфель. «Довольно!» — крикнула Соня, дала арабу деньги и пошла, а Ицхак идет с ней, то рядом, то чуть поодаль.
Молча пришли они на центральную улицу с большими магазинами, и консульствами, и министерствами, и конторами, и — магазином, где служил Рабинович. В связи с субботой магазин был закрыт и не почувствовал, что Рабинович оставил его и уехал. А над магазином — балкон и на нем белая вывеска, где написано синими буквами КОНТОРА ДЛЯ СПРАВОК. Много раз стоял Ицхак в этой конторе со своими товарищами, подавленными и огорченными, как и он. Немая печаль сковала ему губы.
Соня посмотрела на вывеску закрытого магазина и сказала: «Рабинович уехал и не скоро вернется. Как поступил Яркони, так поступил и Рабинович. Приезжают с шумом, уезжают потихоньку. Теперь Горышкин считает себя единственным в мире. Ты знаком с Яэль Хают? Горышкин ухаживает за ее подругой Пниной. Не знаком с ней? Если нет, ты ничего не потерял. Ты видел усы Горышкина? Как два банана, нависли они над его ртом». Соня поднесла букет цветов к носу и понюхала их.
Ицхак считал, что он ниже Сони. Все ответы его были: да или нет. Если бы пришло ему на ум что‑нибудь стоящее, сказал бы ей. Хотя он и не придавал ей особого значения, он уважал ее, так как она была девушкой его друга. Молча шел он рядом с Соней. Поскольку он не привык к женскому обществу, то строго следил за каждым своим шагом, будто она княжеская дочь или дочь герцога. Поведение это смешило Соню и сердило ее, сердило ее и смешило. Смерила она его взглядом и спросила: «Неужели так ведут себя у вас там, в Галиции, с женщинами?» Опустил Ицхак глаза, покраснел и сказал: «Никогда не разговаривал я с женщинами, кроме мамы и сестер».
Много раз встречала Соня этого галицийца и удивлялась, что такого нашел в нем Рабинович, что приблизил его так к себе? Взглянула на него и закрыла глаза. Подправила оба конца своего воротничка и приложила руку к сердцу.
Когда прибыли они в Неве‑Шалом, указала Соня Ицхаку цветами в левой руке на один из переулков и сказала: «Здесь я живу». Показалось ему, что хотела она сказать ему что‑то. Однако она передумала, подала ему руку и попрощалась с ним. Соня вошла в переулок, а Ицхак пошел домой.
Анализируя «Вчера‑позавчера», Амос Оз указывал на мелкие детали этого фрагмента, которые говорят больше, чем может показаться на первый взгляд. Например, пыль, которую Рабинович стряхивает с ботинок, — это все, что нам нужно знать о поверхностности его чувств к Соне. Разве человек, который любит женщину, станет тут же стряхивать ее последние следы, пусть даже с ног? И разве сама Соня, решив остановиться и почистить собственные туфли, не делает то же самое? (Возможно, заметив, как это делает Рабинович, она хочет отплатить ему той же монетой. Ненужное высокомерие по отношению к чистильщику обуви показывает, что она хочет командовать.) И пусть даже она не вполне осознает символизм этого поступка, она прекрасно понимает, что он дает ей возможность продемонстрировать свои ножки Ицхаку. Презрительное убеждение, которым она делится с Ицхаком, как с равным, что Рабинович не вернется, и пренебрежительное отношение к Горышкину — это тоже сигналы, что она ждет нового партнера и готова рассмотреть кандидатуру Ицхака.
Понимает ли Ицхак ее сигналы? Если да, то только подсознательно. Он прикасается рукой ко лбу, чтобы представить себе ощущения от женского поцелуя, а потом заглядывает внутрь ладони, как будто поцелуй мог отпечататься на ней. Сначала он не желает признаться себе, что его влечет к Соне, потом ему кажется, что дело только в том, что они оба дружат с Рабиновичем. Он изо всех сил сопротивляется сексуальной привлекательности Сони. Она, со своей стороны, не верит в его наивность и не знает, как вести себя с ним. Заверить его, что она приличная девушка и ее не нужно бояться? Она подправляет концы воротничка. Может быть, надо дать ему понять, что она готова ответить на авансы с его стороны. Она прикладывает руку к сердцу. Что она хочет сказать в последний момент и осекается? Может быть, она хочет пригласить его зайти, но передумывает, понимая, что только спугнет его?
У Сони и Ицхака есть общие друзья и помимо Рабиновича, и с некоторыми из них мы встречались у Яакова Малкова. Хотя большинство из них приехали из России и считают Галицию глубокой провинцией, их истории похожи на его собственную. Они тоже приехали в Палестину, мечтая стать первопроходцами, «пахать и боронить землю», и они тоже отказались от этой мечты, потому что не представилось случая или потому что им не хватило смелости бороться с трудностями, связанными с крестьянским трудом. Строительные работы в Яффе — это тоже физический труд, но им все равно кажется, что они не отдали себя земле, как завещали им их кумиры, такие как Бреннер и сионистский мыслитель А. Д. Гордон, который тоже появляется в романе. Ицхак чувствует это еще острее, потому что ему кажется, что, будучи маляром, он только красит то, что сотворили другие.
Но если есть работа, жить в еврейской Яффе не так плохо. Тут есть море. Тут есть километры пустых пляжей. Тут есть атмосфера местечка, где все друг друга знают, неформальный стиль общения, беспечное товарищество молодых людей, не отягощенных обязанностями взрослых. Друзья Ицхака и Сони редко говорят друг с другом серьезно: они предпочитают шутить и подтрунивать, потому что, хотя они и стали авангардом сионизма и приехали в Палестину, им немного неловко, как будто бы груз этой роли слишком велик для них. Они принадлежат к малочисленному еврейскому меньшинству в арабской стране, и сионизм развивается слишком медленно, чтобы вселить в них уверенность в успехе или дать им ощущение осмысленности и цели, которое может заменить утраченную религиозную веру.
В отношении религии Ицхак не отличается от них:
Во всем остальном он вел себя, как большинство наших товарищей. Не ходил в синагогу, и не накладывал тфилин, и не соблюдал субботу, и не чтил праздников. Вначале он делал различие между заповедями повелевающими и заповедями запрещающими. Остерегался нарушить запрещающую заповедь и ленился исполнить повелевающую заповедь, в конце концов, перестал делать различие между ними. И если приходилось ему нарушить одну из запрещающих заповедей, не боялся. Так поступал он не в результате особых размышлений о вере и о религии, а оттого, что жил среди людей, пришедших к выводу, что религия не важна, а так как не видели они необходимости в религии, не видели необходимости в соблюдении ее заповедей. Напротив, они, будучи честными людьми, считали бы себя двуличными, если бы исполняли заповеди религии, тогда как сердце их далеко от нее.
Смутная мысль владела Ицхаком независимо от него, смутная, неясная идея, которая направляла его действия. Ведь Эрец‑Исраэль делится на Старый ишув и на Новый ишув, эти ведут себя так, а те — иначе. И если он отождествляет себя с Новым ишувом, зачем ему вести себя, как жители Старого ишува? И хотя некоторые его взгляды изменились, в этом он был тверд. Но при всем том он тосковал о прежних днях, об отцовском доме, о субботе и праздниках, однако не шел в синагогу, а сидел дома, не двигаясь, или же напевал знакомую хасидскую мелодию, пока не забывал хмурую действительность с ее горестями.
В этом отношении не был Ицхак исключением. В те времена Яффа была полна молодыми людьми, отошедшими от Торы, но, когда они собирались все вместе, чтобы провести время, и на душе у них было тоскливо, они услаждали свои души хасидскими историями, и хасидскими напевами, и толкованиями текстов из Торы. Предыдущее поколение пело песни Сиона; это поколение — другое, потускнели для них эти песни, но, если тоскующая душа томится, она просит то, что потеряла.
Если Ицхак, потомок знаменитого Юделе‑хасида, вымышленного персонажа романа Агнона «Свадебный балдахин», который приезжает в Землю Израиля в старости, и отличается чем‑то от своих друзей, то только тем, что он иногда подумывает вернуться к еврейским обычаям. Но даже играя с этой мыслью, «он умиротворял свое доброе начало исполнением какой‑либо легкой заповеди, не требующей больших усилий. Вроде того что читал “Шма” перед сном. И делал это не столько для того, чтобы исполнить заповедь, а потому, что это помогало ему заснуть».
В жизни молодых людей, попавших в Яффу со Второй алией, была какая‑то пустота, которую они старались не замечать. Пока Ицхак увлечен Соней, он вообще не думает об этом. У него никогда раньше не было никаких отношений с женщинами, и он не может понять, что восторг, который он принимает за любовь, это всего лишь сексуальная гордость и новообретенное ощущение собственной мужественности. Вообразив себе, что Соня тоже влюблена, он думает о том, чтобы жениться на ней, но она грубо обрывает его. Покорив его, она теряет к нему всякий интерес и дает ему понять, что их роман окончен. И вновь Ицхак никак не может понять ее — ему так же тяжело осознать, что он ей больше не нужен, как и когда он был ей нужен. От этого она становится более жестокой:
Как‑то раз встретил он Соню. Пошел провожать ее. По дороге заговорили они об Иерусалиме. Сказал Ицхак: «Я еще не был там». Сказала Соня: «Каждый, в ком есть капля крови, а не цветная водичка, едет и смотрит». И добавила Соня: «Нет места в Иерусалиме, где бы я не побывала. Что только я видела и чего не видела! “Бецалель” и профессора Шаца, кабинет Бен Йегуды и стол, на котором он писал большой словарь в тюрьме. И все дни, что я провела в Иерусалиме, я не спала. Днем осматривала древности, а по ночам гуляла со студентами “Бецалеля” по стенам города и мы танцевали при свете луны».
Нежный румянец покрыл вдруг ее лицо, как в ту ночь, когда отдал ей Ицхак свой первый поцелуй. Увидел это Ицхак, и сердце его задрожало, как золотые волоски на ее верхней губе. Протянул он руку погладить ее по голове. Отдернула она голову и сказала: «Идем!» У своего дома она протянула ему руку и сказала: «Прощай!» Не успел он ответить, как она исчезла.
Танцы при луне, как бы говорит Соня Ицхаку, не для таких олухов, как он. В конце концов, наполовину понимая, что он больше не желанен, наполовину в надежде сделать Соне приятное, Ицхак следует ее совету и едет из Яффы в Иерусалим.
История о двух городах
Яффа и Иерусалим, два крупнейших города довоенной Палестины, — это два полюса, между которыми движется сюжет романа «Вчера‑позавчера». Если не считать короткого рассказа о путешествии Ицхака в Палестину, с которого начинается роман, четыре части поровну поделены между этими двумя городами — действие первой и третьей (в которой разворачивается сцена в пансионе Малкова) происходит в Яффе, а действие второй и четвертой — в Иерусалиме. Яффа — прибрежная, плоская, песчаная и влажная; Иерусалим — безводный, гористый, скалистый и сухой. Иерусалим занимает центральное положение в еврейской истории, это святой город еврейской традиции; в Яффе евреи никогда особенно не жили, и в истории и традиции она не играет почти никакой роли. В одном городе живут евреи, чьи предки обитали здесь веками, религиозные, антисионистские и говорящие на идише; в другом — светские сионисты‑пришельцы, которые изо всех сил стараются говорить на иврите.
Были, конечно, и исключения. В Яффе были такие евреи, как религиозный сионист Яаков Малков, — и реальные исторические фигуры вроде Бреннера и Гордона, а в Иерусалиме были воинствующе антирелигиозные студенты и преподаватели (в их числе Эран Ян, друг поэта Хаима‑Нахмана Бялика) школы искусств «Бецалель» или кружок создателя современного иврита Элиезера Бен‑Иегуды, который издавал ежедневную газету «А‑Цви» и еженедельник «Ашкафа», конкурировавшие с ортодоксальной «Хавацелет». Но хотя географически из одного города в другой можно было за несколько часов добраться на поезде, на самом деле это было путешествие между двумя мирами.
В описании прибытия Ицхака в Иерусалим в романе «Вчера‑позавчера» есть лиричность, редко свойственная прозе Агнона. Этот эпизод совсем не похож на его приезд в Яффу. На вокзале он находит извозчика, который может отвезти его в гостиницу.
Подул ветер. Поднял пыль и швырнул ее скалам в лицо. Все вокруг изменилось и «послышался тонкий, едва различимый звук», как будто оплакивают тут кого‑то в горах. Молчаливая грусть окутала вдруг сердце Ицхака; так бывает с человеком, к которому приходят с известием, и он не знает, к добру ли это. Придержал возчик лошадей, пустил их шагом, и запел тихонько молитвенный напев.
Посмотрел Ицхак вперед, и сердце его забилось, как у человека, приближающегося к своей заветной цели. И от утешения, пришедшего к нему от голоса старика, сидевшего и напевавшего нигуны молитвы, ушла грусть из его сердца. Открылась перед ним вдруг стена Иерусалима, увенчанная огненной короной, алой с золотом, окутанная серо‑голубыми облаками; и облака вырезают на ней фигуры золотые и зеленые, цвета старинного серебра, и раскаленной меди, и сиреневого олова. Приподнялся Ицхак и хотел сказать что‑то, но застыл у него язык во рту, как у немого певца. Сел он снова и замер, как бы плывя в молчаливом танце.
Ицхак чувствует себя дома — никогда в Яффе он не испытывал такого чувства. Он быстро находит себе квартиру и работу, и, поскольку большинство его соседей и других рабочих соблюдают заповеди, он тоже постепенно возвращается к ортодоксальному образу жизни, о котором раньше только мечтал. Религиозный уклад и здесь скорее вызван социальным конформизмом, а не сознательными убеждениями, но он вполне соответствует тем порядкам, которые царили в местечке, где он провел детство. Он часто ходит в пятницу вечером к Стене Плача на субботнюю службу, которую когда‑то знал наизусть, а теперь подзабыл.
По памяти или глядя в молитвенник, стоит Ицхак и молится. Иногда душа его тянется к простым и задушевным нигунам митнагедов, а иногда — к хасидским нигунам; то — к воодушевляющим нигунам хасидов, в сердцах которых — страх перед Всевышним, то — к пламенным нигунам хасидов, молитва которых — само пламя огненное. И в каждом нигуне и нигуне звучит в сердце Ицхака его собственный нигун, нигун его родного города. В этом возвышенном состоянии духа освобождается Ицхак от своего чувства вины и кажется себе безгрешным ребенком, чистым от всякого порока, как в те давние прежние дни, когда он был мальчиком, таким же, как и все мальчики его города.
Чувство вины, от которого освобождается Ицхак, многообразно. Это вина за то, что он покинул семью в Галиции; вина за то, что он не смог стать халуцем в Земле Израиля; за то, что предал своего друга Рабиновича и опорочил, как ему кажется, доброе имя Сони; за то, что оставил религию. Его сионизм сильно изменился. Однажды, работая вместе с двумя другими малярами, которые ничего не знают о его прошлом, он начинает петь.
Услышали Ицхака оба его товарища, подняли головы, пораженные и ошеломленные, ведь никогда в жизни не слышали они человека, поющего за работой.
Спросил парнишка Ицхака:
— Ты помощник кантора?
— Почему? — удивился Ицхак.
— Потому что услышал я, что ты поешь.
— Пел я для себя, так просто.
— А, так ты сионист! Слышал я, что любят сионисты петь всегда «Еще не потеряна наша надежда!».
— Что еще ты слышал о сионистах, дорогой?
— Слышал я, что хотят они приблизить избавление при помощи всякого рода прегрешений.
— Почему именно путем прегрешений?
— Не придет сын Давида, но только — в поколении, когда все — праведники или все — грешники, но ведь грешить легче, чем соблюдать заповеди, поэтому они не соблюдают заповеди.
Ицхак слушал, но не возражал. Прошли те времена, когда он горел страстью агитировать за сионизм. Достаточно того, что эти — не пристают к нему. Тем не менее он чувствует, что поддается их влиянию. К добру или не к добру — кто мы такие, чтобы нам знать это? Уже по внешнему виду похож Ицхак немного на жителей Иерусалима, а если вдуматься, так и в глубине души. И когда его подельники, маляры, прекращают работу, чтобы помолиться, оставляет он тоже свою работу и молится. И если едят они вместе хлеб, он вместе с ними благословляет трапезу. Если бы не Блойкопф, стал бы Ицхак абсолютным иерусалимцем.
Блойкопф — один из двух людей, с которыми Ицхак знакомится в Иерусалиме и которые не вписываются в общую картину. Бывший студент «Бецалеля», галициец Блойкопф не соблюдает заповеди, но он художник с еврейской душой.
Потому что нет ни одного мгновения в Иерусалиме, — говорит он Ицхаку, — чтобы не ощутил ты что‑то от вечности. Только не каждому человеку это дано, ведь Иерусалим открывается только влюбленным в него. Давай, Ицхак, обнимем друг друга в знак того, что удостоились мы жить в Иерусалиме. Вначале, когда я уподоблял Иерусалим другим городам, находил я в нем множество недостатков, потом открылись мои глаза, и я увидел его. Увидел я его, брат мой, увидел его. Что я говорю тебе, друг мой, разве способен человеческий язык передать даже самую, самую малость? Помолись за меня, брат мой, чтобы дал мне Всемогущий жизнь, и я покажу тебе кистью в моей руке то, что видят мои глаза и чувствует мое сердце. Не знаю, верю ли я в Б‑га, но знаю, что Он верит в меня и открыл мне глаза, дабы я увидел то, что не всякий глаз видит. Были бы у меня силы рисовать — как бы я рисовал!

Но сил у Блойкопфа, умирающего от туберкулеза, нет, и его смерть и горе его жены становятся настоящим ударом для Ицхака. Хотя у малярного дела и живописи мало общего, Ицхак раньше никогда не думал о краске иначе, как он веществе, которым можно покрывать предметы. Он не думал, что она может и открывать их истинную сущность. В глубине души он видит себя и Блойкопфа стоящими на одной лестнице, только он на самой нижней ступеньке, а Блойкопф — на самом верху. Но ему нужно лишь подняться на одну ступеньку, и это происходит, когда Блойкопф учит его изготавливать вывески. Так Ицхак сближается с Блойкопфом и видит, как его искусство позволяет ему «увидеть то, что не всякий глаз видит».
Второй такой человек — Арзаф, чучельник и еще более эксцентричный персонаж, чем Блойкопф. Он происходит из иерусалимского Старого ишува, но бросил ешиву, в которой добился больших успехов, и выбрал собственный путь.
Почему избрал он это странное ремесло — набивать шкуры зверей и птиц, гадов и пресмыкающихся? Никто не знает. Арзаф сидит один, как Адам в раю, без жены и детей, без забот и хлопот, среди самых разных животных: зверей и птиц, пресмыкающихся и ползающих, змей и скорпионов. Он живет с ними в мире, и, хотя лишает их жизни, они ему не мстят, ведь благодаря ему они удостаиваются чести попасть в знаменитые музеи Европы, а профессора и ученые становятся к нему в очередь и награждают его почетными грамотами и подарками. Арзаф не интересуется деньгами и не хвалится почетными грамотами. Пусть хвалятся те, весь почет которых зависит от других. С него довольно того, что он смотрит на изделия рук своих и знает, что не исказил ни единого создания в мире, наоборот, сохранил память о некоторых птицах Эрец‑Исраэль, про которых говорили, что их уже нет в природе. Одни из бывших товарищей Арзафа прославились и разбогатели. Их богатство и слава — пустой звук для Арзафа. Другие — из бывших товарищей Арзафа составляют гематрии в честь богатых и влиятельных евреев. Гематрии эти имеют такую же ценность в его глазах, как исследования большинства ученых Иерусалима. Что же важно для Арзафа? Важен для Арзафа животный мир, звери и птицы, пресмыкающиеся и ползающие, те, что упоминаются в Танахе и Талмуде и обитают в Эрец‑Исраэль. Охотится на них Арзаф, и выбрасывает их внутренности, и набивает их шкуры, чтобы дать им жизнь вечную. Все это делает Арзаф в течение шести будничных дней, а в субботу он отдыхает, как любой другой человек, расстилает перед домом циновку и лежит и читает.
В отличие от провидца Блойкопфа, Арзаф не стремится прозреть невидимое или проникнуть за внешнюю оболочку вещей. Его зачаровывает сама это оболочка, и его единственное желание — уловить природу, вполне буквально, как не может ни один художник или скульптор, и заставить ее жить вечно. Он убивает, чтобы обессмертить, и дарованное им бессмертие воскрешает Эдемский сад таким, каким он был, пока смерть не проникла в мир. Он — подмастерье в мастерской Б‑га, и подобно Б‑гу он трудится шесть дней и отдыхает в субботу.
Блойкопф и Азраф, каждый по‑своему, люди религиозные, и в их жизни есть строгий компас, которые ориентирован ни на еврейские обряды, ни на сионизм. Они напоминают Ицхаку и читателю, что есть и другие способы реализовать себя как личность и как еврея в Палестине, помимо тех, что предлагают Новый и Старый ишув. Они оба ни на кого не похожи, поэтому они не могут служить и образцами для подражания. Ицхак может восхищаться обоими, но он не может надеяться стать таким, как они. Они заставляют его чувствовать, что ему самому приходится выбирать между новым и старым, между Яффой и Иерусалимом — и чем дольше он живет в Иерусалиме, тем больше он отдаляется от Яффы еще до встречи с Шифрой и «сумасшедшей собакой» Балаком.
Второй самый известный зверь в ивритской литературе
Хотя Балак — только второй по известности зверь в ивритской литературе, его имя ассоциируется с самым знаменитым животным. Это Валаамова ослица, которая жалуется, когда хозяин погоняет ее по узкой тропе: «Что сделала я тебе, чтобы ты бил меня уже три раза» ? «Что сделал я тебе?» — жалуется и Балак, но, в отличие от ослицы, ответа он не получает.
С того момента, как Ицхак подшутил над ним, жизнь Балака, который до этого был самым обыкновенным бродячим псом из еврейских кварталов Иерусалима, радикально меняется. Он вовсе не против того, чтобы на нем рисовали. На дворе жаркий день, и прохладное и влажное движение кисти Ицхака по шкуре доставляет ему такое удовольствие, что он просит продлить его, пока Ицхак не отталкивает пса. Тогда Балак убегает и вскоре прибегает в Меа Шеарим, где, к его удивлению, начинается светопреставление. Все, кто видит его, убегают; матери с криком хватают детей и спешат домой; торговцы, прежде чем закрыть свои лавки, швыряют в него свои весы и гири. Балак — еврейский пес, и он рассуждает о происходящем по‑еврейски:
Решил он, что послал его сюда высший суд справедливости выяснить, не фальшивые ли у них гири. Принялся он вопить: «Гав! Гав! Разве могу я проглотить все фальшивые гири и спрятать их от глаз посланцев суда?» Если бы гири эти весили, как положено, они умертвили бы его, да только пожалел Г‑сподь, Благословен Он, собаку и уменьшил их вес. Воззвал пес к небесам: «Сыны твои согрешили, а я наказан!» Еще не затих его вопль, как попрятались все мужчины, и женщины, и дети в домах и заперли двери. Опустел весь Меа Шеарим, и не осталось ни одного живого существа снаружи, кроме этого пса.
Но подобные сцены повторяются везде, где бы он ни оказывался, и до Балака доходит, что, видимо, он сам каким‑то образом вызывает их. Его приключения, подробно описанные в романе, представляют собой отчаянные попытки пса понять, что же происходит. Сначала он пытается найти убежище в христианских и мусульманских кварталах Иерусалима, где никто не может прочитать написанные на нем еврейские буквы. Там он живет спокойно, ест вдоволь, задирает местных собак и сам терпит от них. Но все же:
Балак обрел покой для тела, для души покоя не обрел. Сожалел о том, что ушло из‑под его ног, и не ценил то, что пришло ему в руки. Весь мир целиком не стоил того места, из которого его изгнали. Пока что поселился он среди других народов, и погрузился в среду иноверцев, и осквернялся пищей идолопоклонников, и отупело его сердце, и не различал он между праздниками еврейскими и нееврейскими. Но вероотступником назло им он не стал и по‑прежнему просыпался в разгар ночи и лаял, потому что в это время собаки всегда лают.
Истосковавшись по еврейской еде и еврейскому обществу, Балак возвращается в Меа Шеарим, и его вновь бросает из огня да в полымя. Он видит свое отражение в витрине лавки и понимает, что знаки на его шкуре как‑то связаны с человеком, который делал вывески. Это подозрение усиливается, когда над ним склоняется француз‑учитель и читает эти знаки. Но что они означают:
Вильнул Балак хвостом и сказал: «Это — то, что я говорил. Не пришла та беда на меня иначе, как от рук других людей, от того пустоголового, что пометил меня. Только неужели оттого, что какой‑то болван написал на мне нечто, заслужил я, чтобы преследовали меня?»
Есть неразрывная связь между правдой и искателями правды. Все, кто хотят знать правду, хотят знать ее до конца. Так и Балак. С тех пор как он занялся поисками истины, он не удовлетворялся частичным знанием, а хотел понять все до конца. Он стоял, и терся о ноги директора, и взывал: «Гав! Гав! Гав мне объяснение этого, гав мне всю правду!» Вышел служка и увидел собаку и надпись на ней. Закинул ноги за плечи и пустился наутек. Сказал Балак: «Он знает правду, но что мне делать, если он сбежал с ней?» И все еще был Балак далек от истины, но в любом случае поиски были небольшим утешением для него в его горе, как пишет поэт:
Да будут благословенны поиски
истины.
Ибо они — утешение мое
В то время, когда я сломлен
страданиями,
Ведущими меня к гибели.
Хотя Балак, наверное, сам не знает, что автором этих строк был каббалист и философ XVIII века Моше‑Хаим Луццато, он и сам немного поэт. Однажды ночью, когда он идет без опаски, потому что Меа Шеарим погружен в сон и не может навредить ему, Балак отбрасывает накопившуюся злобу и разочарование и сам сочиняет стихотворение. Он раздумывает над последней строфой:
На просторах земли
Ни души нет.
Молчит все живое,
Гав, гав, гав — мой ответ.
И тут из темноты появляется рабби Файш. Что делает Файш вдали от дома в такой поздний час? Он развешивает по стенам Меа Шеарим листки, объявляющие об отлучениях, потому что боится делать это днем. Ведь тогда соседи, которых он отлучает за то, что они не такие набожные, как он, сорвут их прежде чем другие люди прочтут. Балак «не занимался политикой и не совал свою голову ни в чьи склоки. Не видел он разницы между разными колелями и разными общинами». Он думает, что Файш просто вышел насладиться тихой ночью, и приветствует его дружеским лаем. Файш в ужасе роняет фонарь и горшок с клеем, а его листки разносит ветер.
И у рабби Файша сердце тоже оборвалось. «Что такое, Файш?» — утешала его миссия, на которую он вышел, и обнимала его. «Не бойся!» Душа его успокоилась, и он побежал за листками. Они, однако, рассудили вполне здраво: «Если простой исполнитель закона так старается вернуть нас, значит, и мы должны еще больше стараться вернуться к нему, потому что мы сами — закон». И они стали сворачиваться и полетели прямо на него, и отлучения били его по лицу. Они были белы как саваны, и он наивно подумал, что это духи предков отлученных им людей .
Издал он страшный вопль и помчался. Помчались листки за ним. Наткнулся рабби Файш на собаку. Пнул ее рабби Файш ногой. Взвыла собака, и содрогнулся рабби Файш, и упал. Не дай вам Б‑г, ревнители заповеди, содрогания такого! Увидел Балак, что человек этот упал и поразился: «Как это, ведь только что он шел на двух ногах, а теперь — распростерт на четырех? Пойду и обнюхаю его: может быть, это не человек, или, может быть, ему нужна помощь и я помогу ему?» Как только принялся он обнюхивать его, очнулся рабби Файш и помчался со всех ног. Стоял Балак, пристыженный и опозоренный. Не дай вам Б‑г, благодетели, позора такого!
Рабби Файш бросается наутек и вновь падает посреди улицы. Утром его находят соседи, приносят домой и укладывают в постель, с которой ему уже не суждено встать.
Гениальность языка Агнона
Здесь уместно будет остановиться и порассуждать о языке Агнона. Вот как выглядит приведенный выше абзац в издании «Вчера‑позавчера» в переводе Барбары Харшав, вышедшем в издательстве Принстонского университета:
И у реб Файша душа ушла в пятки. Но заповедь прижалась к нему и заговорила: «Что с тобой? Не бойся». И она утешала его, пока душа не вернулась. Он стал бегать и собирать листки. А эти клочки бумаги рассудили по‑своему. Если реб Файш, посланец заповеди, бегает, то мы должны бегать еще быстрее, потому что мы и есть заповедь. И они тут же стали сворачиваться и бить его по лицу. И каждая бумажка гогочет словами, которые начертал на ней реб Файш. В наивности своей реб Файш подумал, что это предки отлученных восстали из могил и пришли отомстить ему, потому что бумажки были белы, как саваны мертвецов .
Казалось бы, совершенно другой перевод. Но я привожу этот небольшой фрагмент из версии «Вчера‑позавчера» Харшав не столько поэтому, сколько для того, чтобы объяснить, как иврит Агнона ставит перед переводчиком весьма оригинальные и подчас неразрешимые задачи.
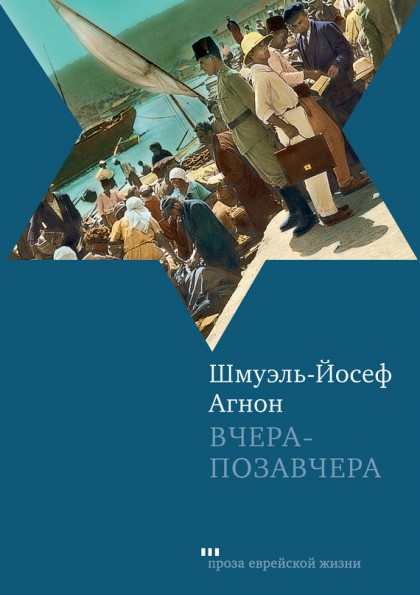
Что происходит в этом абзаце? Рабби (у Харшав — реб) Файш приходит в ужас, увидев собаку, которую он считает бешеной, выпускает из рук листки, и они разлетаются. Он пытается побороть страх и собрать их, но тут начинает дуть ветер, и листки несутся ему навстречу, заставляя его вновь впасть в панику и броситься наутек. Споткнувшись о Балака, он падает, теряет сознание, потом приходит в себя, видит, что Балак обнюхивает его, вскакивает на ноги и исчезает в темноте, вновь оставляя пса с чувством, будто он, сам того не зная, сделал что‑то не то.
Вся эта сцена граничит с буффонадой, и Агнон добивается максимального эффекта, пересказывая ее с точки зрения Файша и Балака. Лишившись способности рассуждать здраво, Файш проецирует свой страх, свои попытки преодолеть его и неосознанные муки совести за то, что он отлучает ни в чем не повинных евреев, на душу, которая покидает его, на задачу, которую он взял на себя и на ожившие листочки, которые физически нападают на него, хотя ему кажется, что они пытаются помочь. (Конечно, он понимает, что листочки не могут рассуждать в талмудическом духе, но где‑то в глубине души он считает, что сам виноват во всем происходящем.) Мысли Балака столь же просты. Поскольку опыт говорит ему, что люди обычно не лежат на улицах, то, увидев распростертого Файша, он задается логичным вопросом, а человек ли Файш вообще.
Перевод Харшав более дословный, чем мой. Ее «заповедь» ближе к агноновской «мицве», чем моя «миссия» или «закон»; ее «прижалась» ближе к агноновскому «мегафефто», чем мои слова «утешала и обнимала его». Но дословный перевод не приближает нас к истинному смыслу, который вкладывал Агнон, если игнорировать литературные ассоциации. В современном разговорном иврите глагол «легафеф», который Харшав переводит как «прижиматься», имеет значение «грубо хватать», «лапать», а в раввинистическом иврите, которым пользуется Агнон, он означает «нежно обнимать». Так что чувство долга, так сказать, утешающе кладет руку на плечо Файшу, а не прижимается к нему в отчаянии.
Возможно, Агнон имел в виду даже более конкретную ассоциацию. В древнем сборнике мидрашей к Песни Песней «Шир а‑Ширим раба» мы читаем:
Когда Г‑сподь объявил [на горе Синай]: «Я Г‑сподь Б‑г твой», души [Израиля] оборвались [от страха]. Увидев, что они [сыны Израиля] умерли, ангелы стали обнимать и целовать их [гитхилу мегафефин у‑менашкин отам] и сказали: «Что с вами? Никогда не бойтесь!» <…> И Он [Б‑г] утешал их [гая мефатеах отам], пока их души не вернулись.
Агнон явно писал эту сцену, думая о мидраше. И хотя он понимал, что большинство читателей вряд ли знакомы с текстом мидраша, но Файшу он точно должен был быть известен.
Однако раввинистический язык пронизывает прозу Агнона даже и там, где персонажи не знакомы с еврейской ученостью. Возьмем разговор Ицхака и Сони об Иерусалиме. Целый ряд выражений, которые использованы в его описании, характерен для раввинистического иврита, а не для современного.
Как‑то раз встретил он Соню. «Наткнулся на [нее]» — «мецаа ла», талмудическая идиома, не использовавшаяся в возрожденном иврите, на котором говорили в Яффе в начале ХХ века.
По дороге заговорили они. Глагол «заговорили», «речь зашла» — «нитгальгель» — пассивная форма «нитпаэль» вместо активной «гитпаэль» — еще один элемент, взятый из раввинистического языка.
Сказал Ицхак: «Я еще не был там». Прямая речь стоит после указания на говорящего, тогда как в современном иврите, как и в английском языке, такого рода идентификаторы ставятся в конце или в середине цитаты. В раввинистической литературе сначала всегда указывалось, кто говорит, причем глагол стоял в начале.
Сказала Соня: «Каждый, в ком есть капля крови, а не цветная водичка, едет и смотрит». Это предложение тоже начинается со слов «сказала Соня», и вместо слова «краска» (на современном иврите «цева») она использует мишнаитскую форму «мей цваим» («окрашенная вода»). Хотя можно сказать, что здесь она просто хочет оскорбить Ицхака, но само по себе выражение не могло быть ей известно, и выдумать его она тоже не могла бы.
В творчестве Агнона не найдешь ни одного абзаца, где не было бы таких архаизмов. Они составляют неотъемлемый элемент его стиля, и перевести их невозможно, потому что в английском языке никогда не было раввинистического периода и эквивалента раввинистическому языку не существует. Попытки использовать параллельные архаизмы — «Единаче сретал он Соню» или «Рек Ицхак: “Не случалось мне бывать там”» — выглядели бы абсурдно. Чосер и Томас Мэлори не похожи на раввинов. И никто не похож.
Не следует, однако, путать архаические элементы у Агнона и их аналоги у ивритских писателей XIX века, таких как Авраам Мапу, Перец Смоленскин и Миха‑Йосеф Бердичевский, которые, каждый по‑своему, пытались создать язык, пригодный для литературы. Мапу, используя библейские формы в «Сионской любви», не прибегал к анахронизмам намеренно. В отсутствие разговорного языка, который мог бы дать понять, что современно, а что нет, он предпочел литературный иврит, еще не переживший различные стадии исторического развития. Вряд ли он смог бы писать архаично, даже если бы захотел, потому что в его время в иврите с библейских времен не было ничего устаревшего. Хотя в течение XIX столетия иврит пережил явный процесс модернизации, в результате которого возник разговорный иврит начала ХХ века, двери в прошлое еще оставались открыты.
Но когда Агнон начал писать прозу на иврите в Яффе в 1908 году, все уже обстояло иначе. Иврит уже был разговорным языком Палестины, и для его носителей что‑то звучало естественно, а что‑то нет, какие‑то формы принадлежали настоящему, а какие‑то только прошлому. Поэтому пронизанный прошлым иврит Агнона можно узнать с первого взгляда. В нем больше «пыли бейт мидраша», чем «земли родины», писал Бреннер, хотя он считал Агнона весьма многообещающим автором. Для Агнона архаизация, которая останется в его прозе навсегда, была осознанной.
Хотя Агнон постоянно использует раввинистический иврит, он не пишет на нем. Когда Соня говорит: «Нет места в Иерусалиме, где бы я не побывала. Что только я видела и чего не видела! “Бецалель” и профессора Шаца, кабинет Бен Йегуды и стол, на котором он писал большой словарь в тюрьме», — она использует современный иврит, хотя, возможно, ее хорошо понял бы и рабби Акива, и архаизм в ее словах вновь появляется только в самом конце, когда она называет луну, при свете которой она танцевала, мишнаитским словом левана вместо современного (и библейского) яреах. Ее иврит представляет собой уникальный диалект, характерный для Агнона в целом, — сочетание языка ХХ века и языка раввинов, от Мишны до хасидских проповедей, столь гармоничный и непротиворечивый, что его элементы, похоже, никогда не противоречат друг другу.
Израильский историк и культуролог Эли Швейд говорил, что этот иврит остановился на полпути между революцией новой ивритской литературы и консерватизмом ивритской литературы предшествующего периода. Агнон обращался к эклектичному раввинистическому стилю, потому что такой иврит при всех его ограничениях упрощал полное проникновение в многовековую еврейскую культуру, не ограничиваясь собственной эпохой. Он не перерабатывал его. Он разрабатывал его в двух направлениях, одновременно перемежая с современным разговорным ивритом и художественно гармонизируя его эстетические недостатки и диссонансы [появившиеся в различные периоды].
Это очень удачная формулировка. Но в ней, мне кажется, не хватает важного элемента — а именно наблюдения, что, выбрав для себя особый путь, отличный от иврита ХХ века, проза Агнона стала и протестом против того, магистрального пути.
Возрождение разговорного иврита в Палестине, его быстрое восхождение к статусу доминирующего языка повседневной жизни и культуры — это удивительный успех, не имеющий исторических прецедентов. Без него сионизм не смог бы добиться своей цели — формирования новой еврейской идентичности. Но этот успех имел изъян с самого начала. Иврит возрождался под сильным влиянием идиша, родного языка большинства своих новых носителей. Его грамматика во многом отошла от грамматики библейского, раввинистического и светского иврита XIX века. Он обогатился множеством заимствований и калек — из идиша, русского, немецкого, ладино, арабского, английского и турецкого. Его словарь и выразительные возможности сильно возросли за 100 лет, но они все еще оставались ограниченными по сравнению с европейскими языками, в том числе и потому, что установление стандартов разговорного языка приводило к немедленному устареванию целых пластов иврита, к которым раньше мог обратиться любой ивритский писатель.
Поэтому, стремительно расширяясь, чтобы научиться отвечать требованиям современной жизни, иврит в то же время резко сократился, в одночасье избавившись от слоев, которые обычные языки перерастали столетиями. И эту потерю нельзя было компенсировать богатым народным языком, унаследованным от родителей и предков, как это бывает всегда. Обычные евреи тоже владели идишем, ладино и еврейско‑арабским, но иврит, выученный ими в Палестине, был эмигрантским языком, который они усваивали от других таких же эмигрантов, а естественных носителей у него пока не было. В крайнем случае, это было что‑то вроде палестинской версии иврита, на котором разговаривали хасиды Йосефа Перла.
Палестинская литература на иврите тоже, разумеется, развивалась в том же направлении. Такие писатели, как Бреннер, были плодом глубокого еврейского образования Восточной Европы. Иврит, на котором они писали, был искусственным. Они знали источники и пользовались ими. Но они уже не могли пользоваться ими так же свободно. Большая часть языка этих источников звучала странно или смешно для еврейских читателей, которые были уже и носителями иврита, особенно светских сионистов, вроде яффских друзей Ицхака Кумара. Многое было безнадежно утрачено. То, что никогда не было в иврите архаичным, теперь стало таковым.
Иврит Агнона — это отказ смириться с этой ситуацией. Он ставит вопрос, как мог бы выглядеть современный иврит, если бы не претерпел такого резкого и жестокого разрыва с прошлым, и, сформулировав этот вопрос, пытается на него ответить. Как он мог бы сохранить связь с раввинистическим наследием и лучше использовать его? Сколько из того, что кажется потерянным, может воскресить достаточно талантливый писатель?
Но на такой вопрос невозможно ответить без критики светского сионизма, который был порожден благородным ивритом XIX века и в свою очередь породил его бастарда в ХХ веке. И нигде в творчестве Агнона эта критика светского сионизма не очевидна в такой степени, как в романе «Вчера‑позавчера».
Ухаживания за Шифрой
Балак ненадолго остался в Меа Шеарим. Он осужден на скитания поисками истины и отношением окружающих — слава о нем распространяется по всему Иерусалиму. Ученые приезжают издалека, чтобы больше узнать о нем. Антрополог публикует статью о древнем обычае, существующем среди иерусалимских евреев, переносить свои грехи на собаку — по его мнению, этот обычай, возможно, возник под влиянием ислама, поскольку мусульмане считают собак нечистыми животными. Звучат протесты защитников животных со всего мира и даже антисемитские обвинения евреев в жестокости.
Во второй части романа, где Балак играет одну из главных ролей, Агнон вовсю развлекается с этим персонажем. Он заставляет его говорить рифмованной прозой, унаследованной из ивритской и арабской средневековой традиции. («Идет себе пес горделиво и тешит себя терпеливо мыслями о доброте своей и о злодействе дурных людей. То подпрыгивает, то шагает, и высокопарные стихи слагает: “Ой вы, блохи, мамзеры, проклятие на проклятье!”») Странствия Балака автор использует для сатиры на различные слои еврейского и нееврейского населения Иерусалима. Устами Балака он рассказывает о легковерии людей, о возникновении народных верований, об иврите, на котором говорят в Палестине. (Поскольку на раввинистическом языке бешеная собака называется келев шоте, а не келев мешуга, Балак никак не может быть на самом деле бешеным.) Он пародирует антропоморфизм религиозной мысли с помощью придуманного самим Балаком космогонического мифа, согласно которому землю и небо сотворили первособака и орел, рожденный из желудка верблюда. Когда небо, устрашившись речей орла, плачет неутолимыми слезами, наполняя моря и затопляя землю, великая первособака набросилась на орла и покусала его, а из осколков образовались луна и звезды.
Балак все время думает о том, как бы кого‑нибудь покусать. Чем тяжелее становится его жизнь, тем хуже и его здоровье. Ему плохо. У него болит голова. Его все время мучает жажда, а питьевую воду найти тяжело, потому что страна страдает от засухи. Он прячет хвост между ногами и пускает слюну. На смену робости приходит сдерживаемая агрессия.
Взмолился Балак, не выдержав этих мучений: ой, за что преследуют меня повсюду в мире, так что каждый, кто видит меня, хочет меня убить? Разве я сделал что‑нибудь дурное людям, разве укусил хоть одного из них? Почему же преследуют меня и не дают мне покоя? Просит он рассудить его на небесах и жалуется: гав, гав, гав мне — место для отдыха, гав мне — справедливость и правосудие. А когда слышат люди его вопли — выходят к нему с камнями и палками. Кусает Балак камни, и грызет прах, и вопит. Говорят ему камни и прах: «Что ты орешь на нас? Разве есть у нас свобода выбора? Злые люди хватают нас и делают с нами, что их душе угодно. Если ты жаждешь мести — иди и покусай их». Говорит Балак праху и камням: «Разве я бешеная собака, что пойду и буду кусать людей?» Говорят прах и камни Балаку: «Если так, иди и пожалуйся на них». Говорит Балак: «Разве жалобы мои они будут слушать? Не слышали вы разве, как они говорят: чья сила, того и воля?» Говорят прах и камни: «Если так, покажи им свою силу».
Балак приближается к тому, кто виноват в его страданиях. Однажды ночью он бегает по городу, и внезапно нюх заставляет его начать копать. В земле он находит одну из кистей, выброшенных Ицхаком.
Обнюхал Балак эту горсть волосков. Прошел по его коже трепет, как в тот день, когда он был в Бухарском квартале; в тот самый день, когда владелец мокрой кисти брызнул на него ее влагой. Только трепет этот не был трепетом наслаждения, а был трепетом страха. Налились его глаза кровью, и вырвался вопль из его пасти. Не вопль рыдания, и не вопль завывания, и не стон, а новый вопль — вопль мести.
Тем временем, Ицхак возвращается в Иерусалим. Завершив отношения с Соней, он чувствует себя вправе просить руки Шифры. Сцена, в которой он делает это — вполне буквально, но не говоря ничего напрямую, — настоящий шедевр деликатности. Приехав в Иерусалим ранним вечером, он находит гостиницу, где оставляет свои вещи, и спешит к рабби Файшу. Маленькую квартирку освещает лампа.
Шифра стояла у корыта с водой и стирала отцовский талит. Спустила она рукава и подняла глаза. Не те, что зовутся мечтательными глазами, и не те золотые глаза. И если мечтательные, то мечта не сбылась, и если золотые, то золото потускнело, как будто не та эта Шифра, которую он знал всегда. Но хороша она, как никогда прежде. Ривка сидела в углу и вязала. Как только заметила Ицхака, посмотрела на него изумленно. Сказал Ицхак: «Приехал я из Яффы» — и взглянул на Шифру. Кивнула Ривка головой и сказала: «Слышала я, что ты отправился в Яффу». Сказал Ицхак: «Я только что прибыл оттуда, и я уже здесь. Как здоровье рабби Файша?» Направила Ривка лампу в сторону мужа и вздохнула.
Реб Файш лежал в кровати. Глаза его запали, под глазами набухли мешки. Взглянула Ривка на мужа и сказала: «Пусть будут так здоровы ненавистники Сиона, как — здоровье Файша». Сказал Ицхак: «Похоже, что не изменилось ничего». Сказала Ривка: «Слава Б‑гу, что не изменилось ничего, ведь если бы изменилось, то не к лучшему». Вздрогнул рабби Файш и уставился на Ицхака. Повернула Ривка лампу в другую сторону и сказала: «Почему ты не садишься? Садись, Ицхак, садись. Итак, вернулся ты в Иерусалим. Сейчас я принесу тебе стакан чаю». Сказал Ицхак: «Да, да. Яффа растет. Строят там новый район. Шестьдесят домов одновременно. Все заняты на стройке. И я тоже нашел там работу». Сказала Ривка: «Ты хочешь вернуться в Яффу?» Сказал Ицхак: «Если вы согласны, вернусь». Покраснела Шифра и опустила глаза. Посмотрел Ицхак умоляюще ей в глаза. И тоже покраснел.
С улицы послышался собачий лай. Сказала Ривка Шифре: «Подойди к отцу!» И сказала Ицхаку: «Как только Файш слышит лай собаки, он пугается»…
Открылась дверь, и вошла соседка. Как только она увидела Ицхака, хотела исчезнуть. Взял Ицхак кусок сахара в руку и сказал: «Тетушка, не надо бежать от меня». Допил последний глоток и положил сахар, погладил бороду и сказал: «Уже поздно, пора мне идти». Встал со стула, и поклонился Ривке, и сказал: «Спокойной ночи», — и подошел к Шифре, и взял ее за руку, и попрощался с ней. Смотрела на него Ривка и удивлялась. Сказала соседка: «Этот парень?» Улыбнулся Ицхак ей в лицо и сказал: «Этот, этот», — и сжал руку Шифры. Вырвала Шифра руку из его руки и сказала: «Спокойной ночи!» Провел Ицхак рукой по бороде и вышел. Подняла Ривка лампу и встала в дверях посветить ему при выходе. А Шифра осталась стоять на месте, и уши ее ловили звук его шагов. Когда исчез он из поля зрения, вернулась Ривка и повесила лампу на гвоздь в стене.
С какого намека в этом фрагменте начать? С Шифры, инстинктивно следующей кодексу скромности, в котором ее растили, когда, еще не зная, кто пришел, она автоматически опускает рукава, закатанные для стирки? (Если это женщина, опускать рукава не нужно.) С того, что, руководствуясь тем же кодексом и доверием к матери, она предоставляет вести разговор Ривке? С ее глаз, которые говорят нам и, наверное, Ицхаку, что она страдала в его отсутствие, хотя она не может сама себе признаться в причине своей тоски? С того, что Ицхаку кажется, что она «хороша, как никогда прежде», потому что какой изнуренной ни была бы женщина, которую он любит, она всегда прекрасна? С того, что Ривка сначала направляет лампу на Файша, а потом в сторону, потому что она хочет, чтобы Ицхак видел его, но, пусть даже бессознательно, волнуется, что Файш может увидеть Ицхака? С уверенности Ицхака в себе, которой никогда не было у него раньше, а теперь появилась, потому что он повзрослел и потому что впервые с момента приезда в Палестину он чувствует, что поступает правильно? С теплого отношения к нему Ривки, невзирая на страх, что общество этого не одобрит? (Она вовсе не обязана быть дружелюбной к нему и тем более предлагать ему чай, который она, по восточноевропейскому обычаю, подает с сахаром вприкуску.) С того, что он дважды поглаживает себя по бороде типичным жестом религиозного еврея, которым он теперь стал, — понимает ли он сам, что это могут заметить Ривка и Шифра, понимают ли они? (Мы видели этот же жест в исполнении Яакова Малкова в его пансионе.) С того, что рассказчик оставляет нас в неведении, с надеждой или со страхом ждет Ривка ответа на свой вопрос, собирается ли Ицхак вернуться в Яффу?
В ответ Ицхак фактически делает предложение, и румянец Шифры подтверждает, что она прекрасно понимает это. Он не получает ответа из‑за собачьего лая (может быть, это Балак), который милостиво избавляет Ривку от необходимости ответить. Но у него есть основания надеяться. Когда он берет Шифру за руку перед глазами удивленной матери и соседки, прекрасно понимая, что он делает (они оба помнят, что когда‑то это же движение обратило ее в бегство), она отнимает руку не сразу, а только когда он сжимает ее, — и после этого прощается с ним, смотрит, как мать провожает Ицхака, освещая ему дорогу, и встает с места, прислушиваясь к его шагам.
До свадьбы Ицхаку и Шифре предстоит еще немало испытаний, но исход уже ясен. Уверенность укрепляет сделанное Ривкой открытие, что Ицхак — потомок благочестивого Юделе‑хасида (в Меа Шеарим происхождение много значит), а также неожиданная поддержка мудрой соседки, которая, заметив взаимные чувства молодых людей, советует Ривке поженить их. Но все равно в Меа Шеарим хотят бойкотировать свадьбу, и положение спасает только видный раввин, который готов помочь молодым из дружеских чувств к отцу Ривки. Это меняет все, и в последний момент «пришли все соседи и соседки, мужчины, и женщины, и дети разделить радость жениха и невесты, так что не мог дом вместить всех пришедших».
Бешеный пес
Ицхак и Шифра счастливы. Однажды вечером, окончив работу,
Ицхак собирался вернуться домой, к жене, к которой стремился всей душой со страстью молодожена. В это же время сидела Шифра одна дома и удивлялась сама себе, что с того самого часа, как встала она под хупу, и по сию минуту, не перестает грезить об Ицхаке. Подняла Шифра глаза — проверить, заметно ли это. Посмотрелась в зеркало на стене и поразилась. Кроме платка на голове, не заметно было в ней никакой перемены. А она была уверена, что превратилась в новое существо… Вспомнила она, как стояла вместе с Ицхаком под хупой и думала, что такой великой минуты не будет больше в ее жизни, теперь видит она, что каждое мгновение — велико. Подошла к плите и проверила, что — с кушаньем, поставленным мамой вариться к сегодняшней трапезе, и поразилась: уже сварилось кушанье, а Ицхак все еще не пришел.
Ицхак задерживается. По дороге домой он встретил толпу, собравшуюся послушать уличного проповедника. Проповедник обличает грехи людей, в наказание за которые Б‑г наслал засуху. Внезапно появляется Балак. Собравшиеся тут же разбегаются. Ицхак, который был в Яффе и ничего не знает про слухи о бешеной собаке в Иерусалиме, спокойно стоит на месте, а когда ему кричат, чтобы он бежал, без малейшего стыда пытается объяснить, что бояться нечего и он сам написал на боку у Балака слова «келев мешуга». Недоверие сменяется волной облегчения.
И уже не осталось никого, кто бы боялся собаки. И поскольку перестала собака внушать ужас, они удивлялись на самих себя, что боялись ее. Зазнались они и начали насмехаться над трусами, которые, завидев собаку, бросаются прочь от нее. И трусы тоже стали храбрыми и обвинили во всем газеты. Газеты эти… Не о чем им писать — вот и пишут всякое. Вчера пугали нас собаками, а завтра будут пугать нас мухами.
Итак, не было человека, который бы боялся собаки, и нечего говорить про Ицхака, виновника происшествия, который забыл про нее тут же после сделанного. Но собака не забыла про Ицхака: уже понял Балак, что все несчастия, павшие на его голову, пришли от рук владельца кисти. Выслеживал Балак владельца кисти. Если попадался тот ему, то Балак лаял на него, а если не попадался тот ему, образ его шел перед ним, и Балак лаял. Каждый, кто слышал его голос или видел его тень, пугался. Как только услышали про ту историю, перестала собака внушать им страх. Подумайте только, все то время, что Балак был в своем уме, боялись его, как бешеной собаки; как только начал Балак сомневаться, в своем ли он уме, ни один человек не боится его.
А Балак действительно обезумел. Похоже, он подхватил бешенство, играя с собаками из нееврейских кварталов Иерусалима. Оказавшись лицом к лицу с Ицхаком, когда люди стали расходиться,
Поднял Балак оба свои измученных глаза и посмотрел на ноги владельца кисти. Увидел, что они стоят на том же самом месте. Вырвался у Балака вздох из глубины души, и он подумал: каждый, знающий истину, не боится ничего в мире, да только истина — тяжела и несут ее — немногие. Подставлю я свои плечи и понесу вместе с ними истину. Тем временем стоял Ицхак, полный стыда и позора, мучаясь и раскаиваясь, так стоит человек согрешивший и ожидающий приговора. Когда снова увидел Ицхак собаку, то щелкнул ей пальцами и сказал ей: «Слышала, что говорят про тебя? Бешеной собакой называют они тебя». Излишне говорить, что не дразнить собаку хотел Ицхак, но оттого, что стыдился разговаривать с человеком, разговаривал с Балаком. Но Балак — было у него другое мнение. Вскинул он голову в панике и посмотрел на Ицхака, почернела оболочка вокруг зрачков в глазах Балака и исчезла в них белизна. Заполнилась его пасть пеной, и зубы его застучали. И он сам весь тоже затрясся. Захотелось ему броситься на Ицхака. Но, в конце концов, отвернулся пес от него и уткнулся носом в землю.
Ицхак поворачивается, направляясь к дому.
Качнул головой Балак, размышляя про себя: уходит он себе, а я… остаюсь я тут, презираемый, и попранный, и затравленный. Вывалился его язык настолько, что готов был выпасть изо рта. Хотел он вернуть его на свое место и не мог вернуть его. Прошел сладкий трепет меж его зубами. Забылась вся его боль, и что‑то похожее на тоску и желание потекло, как из родника, и поднялось выше зубов. Оскалились его зубы, и все его тело напряглось. Не успел Ицхак уйти, как бросилась на него собака, и вонзила в него зубы, и укусила его. И как только укусила его, бросилась бежать со всех ног.
Ицхак возвращается домой, заболевает и через несколько недель умирает в страшных мучениях. «А теперь, дорогие друзья, — удивляется рассказчик, — когда мы оглядываемся на жизнь Ицхака, мы стоим потрясенные и устрашенные. За что он наказан так?».
Но в день похорон Ицхака небеса покрылись тучами. Вскоре начался дождь. Засуха кончилась. Дождь идет и идет. И когда он наконец прекращается,
каждый куст, и каждая травинка источали чудный аромат, и нечего говорить про апельсиновые деревья. Как благословенная обитель была Эрец, а жители ее, как благословенные Б‑гом. И вы, братья наши, соль земли нашей, на Кинерете и в его окрестностях, в Эйн‑Ганим и в Ум‑Джуни, он же Дгания, вышли вы на работу в поля и сады, на ту работу, которой Ицхак, товарищ наш, не удостоился. Ицхак, наш товарищ, не удостоился укорениться на земле, пахать и сеять, но заслужил подобно реб Юдлу‑хасиду, прапрадеду его, и другим праведникам и хасидам клочок земли, чтобы лежать в Святой земле. Пусть оплакивают его все, мученика этого, умершего страшной смертью. А мы расскажем о деяниях братьев наших и сестер наших, детей Б‑га Живого, народа Всевышнего, обрабатывающего землю Израиля во имя Б‑га, и во имя славы ее, и величия ее.
Но такой книги нет.
Своевременность романа «Вчера‑позавчера»
Хотя не всем нравится прочитывать финал романа «Вчера‑позавчера» таким образом, но его сентиментальное описание счастливого аграрного труда в «Эрец» — чистой воды пародия. Оно совпадает с началом романа, и два этих фрагмента обрамляют историю как обложка. Может показаться странным, что Агнон использовал этот прием в повествовании, которое при всем его юморе нельзя назвать комическим. Но Агнон любил играть с читателями и никогда не боялся риска оказаться непонятым ими — ему даже нравился такой риск. Можно с определенными оговорками сказать, что роман «Вчера‑позавчера» был написан, чтобы обмануть покупателя книжной лавки, который принимает решение, купить ли ему книгу, посмотрев на первый и последний абзац.
Тем не менее между этими абзацами есть принципиальная разница. В первых строках «Вчера‑позавчера» автор высмеивает радужные представления Ицхака Кумара о Палестине, в которую он направляется. В конце концов, разочарованный жизнью в Яффе, которая, как оказалось, не совпадает с его ожиданиями, Ицхак переезжает в Иерусалим, возвращается к религии и в итоге оказывается в антисионистском Меа Шеарим, где и гибнет, получается, от собственной руки, ведь он сам запустил цепь событий, которые приводят к его смерти. Образ Ицхака и мотивы его действий можно анализировать с разных точек зрения, и критики Агнона вовсю упражнялись в этом, но такова чистая сюжетная канва.
Последние же строки «Вчера‑позавчера» описывают события, случившиеся уже после смерти Ицхака, и не отражают его точку зрения. Они исходят от безымянного рассказчика, смутная тень которого регулярно называет героя «товарищем нашим Ицхаком». Так что же думает этот рассказчик, или коллективное «мы» Второй алии, от чьего имени он выступает, — смеется ли Агнон?
Халуцим Второй алии точно не были для Агнона объектом большого почтения. Скорее, может показаться, что пародийный финал «Вчера‑позавчера» направлен против социалистической сионистской идеологии, которая романтизировала и мифологизировала фигуру халуца, сделав ее своеобразным мерилом, на которое должны были равняться все прочие формы сионизма.
«Многие критики, — пишет Амос Оз, — находили в романе “ Вчера‑позавчера” массу оснований для общих рассуждений о Второй алие <…> которая якобы порвала с религией, семьей и традицией только для того, чтобы в конце концов порвать [в лице таких людей, как Ицхак] с собственными идеалами первопроходцев» — «якобы», потому что Оз понимает: Ицхак никогда не порывал с собственным прошлым. Ценности, в которых Ицхак вырос, убежден Оз, остаются его мерилом, поэтому «из местечка происходят все его фантазии о тенистых виноградниках и фиговых деревьях Палестины, и в местечко они возвращаются». Он и его яффские друзья «никогда не переживут нового рождения и не стряхнут с себя прах изгнания. Наоборот: они пронесут его повсюду, куда бы они ни пошли».
Другими словами, в отличие от первопроходцев Кинерета и Дгании, Ицхак не хочет или не может измениться радикально, и поэтому его тянет обратно в мир религии в самой реакционной ее форме. Он пытался жить, по словам Оза, «наивным синтезом», сочетая еврейскую традицию с революционными идеалами Второй алии, но синтез не удается, потому что он и не может удаться в силу внутренних противоречий, и Ицхак возвращается туда, откуда пришел, и даже заходит немного дальше.
Действительно, именно таким может показаться суждение рассказчика об Ицхаке в финале «Вчера‑позавчера». Однако позиция Оза кажется странной, учитывая, какой он внимательный читатель, потому что, как я уже сказал, очевидно, что это суждение пародийно. Клише в финале романа такие же умильно сентиментальные, как и в начале его. Поставьте вместо колоний Первой алии, о которых читал Ицхак Кумар, коммуны Второй алии, и вы увидите, что различий почти нет.
Оз буквально понимает утверждение рассказчика, что роковой ошибкой Ицхака стал отказ от участи крестьянина‑первопроходца, к которой он себя готовил. Здесь повествователь полностью соответствует идеям социалистического сионизма, которые никогда не были так популярны, как в 1940‑е годы, когда писался роман. Тогда фигура халуца считалась идеальной формой сионистской самореализации, в которой энергия, скрытая в еврейской религии, освободилась и реализовалась в сионистском пыле и созидании.

Может быть, так думает рассказчик в романе — но не Агнон. Я бы предположил, что вся история с тем, как Ицхак не смог стать халуцем, это отвлекающий маневр, который постоянно используется по ходу повествования, чтобы сбить нас с пути. В конце концов, карьеру маляра в Яффе вместо участи крестьянина в Дгании вряд ли можно считать предательством сионизма. Ишуву нужны и маляры, и ему не добиться успеха без еврейских рабочих в городах Палестины в той же мере, что и без еврейских крестьян. На самом деле, очень небольшая часть из сионистских эмигрантов, приезжавших в Палестину в те годы, когда разворачивается действие «Вчера‑позавчера», в конечном итоге обосновались в сельскохозяйственных поселениях. Чувство вины Ицхака от того, что он не принадлежит к их числу, реально, но оно говорит только о том, что он не оправдал собственных ожиданий, а не о том, что он не удался как сионист. Отказывая ему в принадлежности к сионизму и плотно увязывая его с предком, Юдлом‑хасидом, который прибыл в Палестину, чтобы умереть и быть похороненным там, рассказчик простодушно повторяет заявление Бреннера: «Кроме крестьян, друзья мои, кроме крестьян, они все жулики, жулики, жулики!»
На самом деле, если Ицхак и совершил ошибку, она заключается в том, что он, как и рассказчик, купился на эту идею, которая высмеивается в конце романа так же, как и в начале. В последний момент подразнить читателя и проверить его на доверчивость по отношению к рассказчику, в чьем благоразумии мы до сих пор не сомневались, — излюбленная игра Агнона. Он прибегает к ней и в других произведениях — самым блестящим примером служит финал романа 1951 года «До сих пор», действие которого разворачивается во время Первой мировой войны в Берлине. Эта история тоже рассказывается мудрым наблюдателем, который прекрасно видит чужие слабости и завершает повествование невольным признанием в собственной глупости, и это признание заставляет внимательного читателя переосмыслить прочитанное.
В конце «Вчера‑позавчера» нам, как мне кажется, стоит переосмыслить следующее — не является ли вывод, сделанный Агноном, прямой противоположностью тому, что приписывал ему Оз. Возвращение Ицхака в Меа Шеарим вызвано не его неспособностью «стряхнуть с себя прах изгнания». Оно связано с тем, что он слишком сильно стряхнул его с себя, отказавшись в Яффе от религии и ее ценностей, когда его друзья даже не говорят кадиш по своим отцам. Такая жизнь подрывает его внутреннее равновесие как еврея и как человека, и в попытке вернуть его он заходит слишком далеко в обратном направлении.
Хотя история Ицхака уникальна, сам он описывается в романе как самый обыкновенный человек. Ицхак, замечает рассказчик:
ничем особо не выделяется среди других. Многие молодые люди похожи на Ицхака, и вряд ли ты обращаешь на них внимание. Ицхак не отличается ни внешностью, ни искусством беседы. Случись тебе поговорить с ним, вряд ли ты будешь стремиться побеседовать с ним еще раз. И если он случайно попадется тебе на рынке, ты не узнаешь его. Такой молодой человек, как Ицхак, — кто не любит его, просто его не замечает.
Ицхак — самый простой сионист, хотя происходящее с ним не происходит с каждым сионистом. Он проживает собственную жизнь; его судьба, если рассматривать ее как нечто большее, чем просто курьез, вряд ли заслуживающий романа на 600 страниц, заставляет задуматься о чем‑то большем.
Но о чем? Агнон писал «Вчера‑позавчера» в Иерусалиме в годы Второй мировой войны, когда Старый ишув составлял уже гораздо меньшую долю городского населения, чем в 1910 году. К тому времени он давно уже проиграл войну с Новым ишувом. В Палестине, как и по всему миру, религия казалась обреченной на исчезновение в светском будущем. Нерелигиозные евреи, которые возвращались к вере, попадались чрезвычайно редко. Но хотя причудливая судьба молодого сиониста, который приехал в Палестину в начале ХХ века только для того, чтобы затеряться в ультраортодоксальном квартале Иерусалима, не удивила бы палестинских читателей Агнона, она не символизировала бы ничего особенного в знакомом им мире.
Пожалуй, читателей Агнона в 1945 году озадачило и разочаровало бы явное отсутствие в романе великих и ужасных проблем, терзавших современный им мир: только что закончившейся опустошительной войны, гибели европейских евреев, предстоявшей им отчаянной борьбы за еврейской государство, победа в которой была вовсе не очевидна. Как мог величайших из ныне живущих ивритских писателей, каким считался Агнон уже в то время, провести эти годы в обществе столь тривиального персонажа, как Ицхак Кумар?
Возможно, ключом к разгадке может стать Балак.
Балак ставил в тупик читателей «Вчера‑позавчера» еще больше, чем Ицхак. Что он делает в романе? Агнон прекрасно понимал, что этот вопрос будет задан. В главе, которую он написал и решил вычеркнуть, он напрямую обращается к читателю:
Я знаю, что ты недоволен мной за то, что я смешиваю все в одну кучу и путаю животных с людьми. По‑твоему, дорогой читатель, я должен был держать Ицхака и собаку подальше друг от друга и сочинить о них две отдельные истории. Мы сердишься на меня за то, что я позволил собаке говорить и наделил ее речью и способностью рассуждать о таких вещах, о которых ни одной птице или зверю нет нужды задумываться <…> [особенно после того, как] дотошный критик уже установил, что лошади не разговаривают, как люди.
Что это за критик, можно поискать, но лошадь, о которой идет речь, это совершенно точно персонаж повести Менделе Мойхер‑Сфорима «Кляча», написанной сначала на идише в 1873 году, а затем переписанной на иврите. Лошадь здесь олицетворяет собой еврейский народ. Многие критики Агнона не соглашались с таким видением Балака и предлагали другие истолкования. Он — альтер‑эго Ицхака; он — подавленное эротическое и агрессивное «я» Ицхака; он — демоническая сила, разбушевавшаяся в беспомощном мире; он — вечная жертва непостижимого рока; он — все перечисленное и многое другое; он — ничто из этого, а просто собака. И отличная собака, — он нюхает, царапает, забивается в угол, копается в грязи, лает, рычит, визжит и воет, навостряет уши и поджимает хвост, как все собаки.
И все же он, как уже замечалось, очень еврейская собака, и самое еврейское в нем то, как окружающий мир пугает его, поносит его, заставляет его пускаться в бегство, скитаться и стремится убить его без видимой причины. Разве случайно, что Агнон писал о нем во время Второй мировой войны? Разве может быть такое, что он придумал Балака, не думая при этом о евреях Европы?
Я думаю, что нет. «Вчера‑позавчера» — это роман, созданный под тенью Холокоста.
Преследователи ошибочно полагают, что Балак бешеный, и он становится бешеным. Еврейский народ, у которого во время и после Холокоста были все причины сойти с ума, удивительным образом сохранил здравомыслие. Но безумие, как бешенство, имеет свой инкубационный период. И если первое большое опасение, высказанное в романе, состоит в том, что слишком светский сионизм в какой‑то момент, как маятник, качнется к другой крайности, то второе — что рано или поздно, сегодня или завтра, безумие, подхваченное еврейской историей, проявится среди евреев, и они падут его жертвой, как Ицхак пал жертвой Балака, а Балак — Ицхака. И тогда даже любовь (потому что кто может засомневаться в Ицхаке и Шифре?) не спасет их.
Агнон, самый лукавый из еврейских писателей, верил в синтез, который Амос Оз считал наивным, и тревожился о сионизме, не желающем или не способным достичь этого синтеза, так же, как о языке иврит, оторвавшемся от своих корней. В продолжении великого спора между великим сионистским мыслителем Ахад ха‑Амом и Михой‑Йосефом Бердичевским, спора, который в той или иной форме не стихает в Израиле до сих пор, Агнон, как и Бялик, стоял на стороне Ахад ха‑Ама, а Бреннер, с которым его связывали личные узы, — на стороне Бердичевского. Но в отличие от Ахад ха‑Ама и Бялика, Агнон был религиозным евреем, пусть даже на время отошедшим от религии в яффские годы.
Но он вернулся к религии не так, как Ицхак. Ортодоксия, в лоне которой он пребывал вплоть до своей кончины в Иерусалиме в 1970 году, была гораздо более умеренной. Действительно, чем больше читаешь Агнона, тем сложнее определить, был ли его иудаизм обусловлен верой, верностью предкам, культурными убеждениями, консерватизмом как свойством личности, сознательно выбранным бастионом против хаоса или комбинацией всего перечисленного. Свою великолепную иронию он обращал против иудаизма столь же легко, сколь и против всего остального.
Ирония, присутствующая во всем творчестве Агнона, была для него способом достижения равновесия, равноудаленности от всего, о чем он писал, и эта точно выверенная сбалансированность характерна для всего, что он писал, от языка и структуры фразы до разработки персонажей и сюжетов. «Вчера‑позавчера» — это роман об утрате равновесия у одного молодого человека и возможной утрате его у целого народа. В 1945 году роман не показался читателям своевременным. Сегодня он может показаться еще более своевременным. 
Оригинальная публикация: The Matchless Master of Modern Hebrew Literature

Литературное творчество как тикун. О возможном прочтении романа Ш.‑Й. Агнона «Путник, зашедший переночевать»

Мотив сексуального воздержания в прозе Шмуэля-Йосефа Агнона

