Сегодня на 86 году жизни скончался литературный критик Лев Аннинский, автор и давний друг нашего журнала. В память о Льве Александровиче «Лехаим» публикует две его статьи, выходившие в журнале в прошлые годы.

Еврейские будни. С точки зрения еврейских праздников
До еврейских проблем мне еще надо добраться. К тому же, еврейские праздники неизбежно и фатально видятся мне сквозь призму русских праздников. Если угодно, по контрасту. Я имею в виду отнюдь не перечень красных дат, а характер народа, выявляющийся через тип празднества. Я вспоминаю русские праздники, как они описаны великими русскими писателями – со всеми мыслимыми оттенками восхищения и ужаса: непременное питие до положения риз, непременное выяснение отношений до самой подноготной, непременные баталии – стенка на стенку, тот берег на этот берег, та улица на эту улицу, а если улица одна, значит, тот конец на этот… Уже в наше время я нашел продолжение этого праздничного неистовства у Шукшина: дикие взрывы неуправляемой радости-ярости в противовес свинцовой зажатости всегдашних будней…
И – по контрасту: как точно, как скрупулезно, предусмотрительно расписаны еврейские праздники, как предусмотрен в них каждый шаг, каждый взмах руки, как угадан и перехвачен каждый взлет эмоций…
У русских праздник – это «распряжка», это возможность сбросить все путы и забыть все обязательства, это шанс перейти, наконец, всякие границы, послать все к чертовой матери и почувствовать жизнь как бы «сначала».
У евреев – это стройная система допусков и ограничений, три тысячелетия подряд подтверждающая незыблемость мироустройства, начало которого восходит не к какому-нибудь «договору Олега с греками» или «призванию варягов», а прямо-таки к сотворению мира.
И момент этого сотворения исчислен так же скрупулезно: точнехонько 5762 года тому назад.
Должен сознаться, что я изначально не обладаю такой пунктуальностью мышления и памяти. Даже если я выучу наизусть все, что написано в книге «Еврейские праздники» , я все равно не решу, к кому мне присоединиться: к Гилелю или к Шамаю в споре о порядке возжигания свечей. И вряд ли запомню, как надо «встряхивать руками» над эсрогом и лулавом. Или вести сейдер, «облокотившись на левую руку в просторном мягком кресле». Или в Пейсах отвечать на четыре вопроса. Или на ташлих высыпать из карманов мусор в воду.
Не могу не отдать должное своеобразной прелести этих ритуалов, а также создателям книги, так поэтично их описавшим и обрисовавшим. Еврейская прелесть дополнена здесь западно-славянской уже в том, как звучит фамилия автора текста: Рут Козодой. На русский его перевела Ора Шир, постаравшаяся придать интонации некоторую «детскую наивность»; и такую же «наивность» продемонстрировали в рисунках Александра Лупаца и Эдуард Зарянский. Подросток, прошедший обкатку в каком-нибудь хедере, оценит доверительность, с какой его спрашивают: это было – тысячи лет назад! С какой стати нам теперь праздновать исход из Египта и рассказывать про какого-то фараона? – он поймет, с какой стати. Потому что фараоновы нравы за тысячелетия мало переменились, а отвечать на вопросы времени приходится сейчас.
А если уж с фараоновых времен начинать, то вопрос, который я хотел бы задать Всевышнему, выглядит так. Всевышний ведь всесилен – он останавливает воды прилива и перенаправляет светила, – почему он не может вразумить малых сих на минимальное воздержание от глупостей? «Я убью старшего сына в каждой египетской семье. После этого фараон вас отпустит»… Ничего себе! Это называется: чесать правое ухо правой рукой через левое ухо.
Или – из персидских дел: почему ничтожный Ахашверош не может отменить им же подписанный указ и развязывает кровавое междоусобие? Как Вседержитель попускает такую подлость и глупость?
Я задаю вопросы в том «наивном» стиле, в каком мне предлагается во все это верить. И предчувствую ответ: кого Б-г любит, того и испытывает! Переменить «указ» какого-нибудь коронованного сибарита – слишком простой, слишком легкий путь решения проблемы человеческой подлости. Нет, надо натравить простодушных персов на благодушных евреев, надо разрешить погром, надо посмотреть, кто польстится на чужое и хватит ли у погромленных сил на самооборону (о, Белосток, о, Кишинев, о, Киев начала ХХ века!).
Ощущение такое, что еврейская история все время провоцирует людей, «вытряхивая» их из благодушия, как мусор из карманов на Новый год.
При этом поражает «обязательность веселья» в еврейские праздники. Такова традиция тысячелетий. К новым праздникам это не относится: День Катастрофы и Героизма, День Независимости пронизаны горечью. Но все давнее отмечается в непременно «приподнятом настроении», вплоть до разрешения напиться допьяна в Пурим. Напрасно русские пьяницы будут искать в этом случае евреев в качестве собутыльников: евреям упиться до дури в Пурим разрешено и даже рекомендовано, меж тем как русские упиваются до дури без разрешения и даже назло запретам. В чем весь смысл русского пития.
Но я о евреях. Их «обязательная радость» – коррелят того горького отчаяния, в которое погружены еврейские будни на протяжении тысячелетий. Независимо от того, в изгнании эта жизнь или на святой земле. Как сказал раввин Штейнзальц: евреи – передовой отряд человечества, на котором Создатель испытывает все, и прежде всего – всё опасное.
Если это так, то понятно, почему в праздник еврей хочет почувствовать себя «принцем», «богачом» и, так сказать, пупом земли. Потому что отсчитывает – от бедствия! (Русский человек в праздник, наоборот, юродствует и бедствует напоказ, потому что в будни бесшабашен и ни в какие бедствия не верит.)
Так все-таки о евреях. Величие их страшит. Радуясь, они ни на миг не забывают, что за все Б-г приведет их к Суду. Редкостный самоконтроль. Шаг вправо, шаг влево…
И вот еще что поразительно. Народ, за тысячелетия доказавший свою духовную устремленность, в непосредственных желаниях открыто прагматичен. Что выбираешь: богатство? славу? величие? Нет, выбираю мудрость. Но следующей фразой все низводится обратно: …а вместе с мудростью придут к тебе богатство, слава и величие.
Вот так раз. А я-то (по русской моей бесшабашности) думал, что мудрость поможет мне перестать желать богатства… и прочего личного благополучия.
Последняя формулировка – из первой главы «Еврейских праздников». Там сказано: «Мы мечтаем о мире, согласии между людьми и нашем личном благополучии». В таком контексте «мир» воспринимается не как сверхценность, а как условие этого самого «личного благополучия». Которое, по русскому опыту, вообще недостижимо вне соборнего мироустроения, а ежели соборне, то нисходит на тебя и устраивается «само собой». По еврейскому же опыту, вовсе не нисходит, а добывается страшной ценой («я убью старшего сына…» – перенесите эту жертву из времен Моисеевых во времена Авраамовы и прикиньте, сколько действует этот закон: кровавый выкуп счастья).
«Мы, евреи, не похожи на остальные народы…» Рискованное утверждение. Ведь ни один народ на земле не похож на другие народы. Даже если очень старается «интегрироваться» в мировую цивилизацию.
Но дальше: «Евреи были первым в истории человечества народом, который поднялся в защиту своего права верить – верить в Единого Б-га… Евреи предпочитали умереть, но не отречься от своего Б-га». Вот тут уже я рискну продолжить: и евреи никогда никому не навязывали этой своей веры. Никого в нее, в свою веру, насильно не обращали. И даже ограждали ее от «чужих».
Знаете, что приходит в голову, когда размышляешь об этой еврейской «особости»? Если вообразима предельная степень сопротивления тому всечеловеческому растворению в общем котле, которое раньше называлось «прогрессом», а теперь «глобализацией», – то еврейство есть символ именно такого сопротивления. Считается, что евреи – движущая сила транснациональных корпораций и прочих заговоров мировой власти. Вовсе нет! Евреи, втягивающиеся в «мировой порядок» на роли его толкачей и доброхотов, – уже не евреи, они перестают быть евреями. Если же они настоящие евреи, то мировой порядок скорее обломает об них зубы, чем заставит их забыть о своей особости. В каких только империях ни вываривались, каким только властям ни служили (империи – такой же законный шаг истории, как и сопротивляющиеся им этносы) – а как вспомнят, что они евреи… Кипу на голову, трубу наперевес: ткиа – шварим – труа – ткиа! И не перепутают ни одной ноты!
Но тогда как понимать следующие максимы: «Эрец-Исраэль – это центр мира»? И что Ковчег Завета, а перед ним – эвен штия – «краеугольный камень мироздания»? И что «великое предназначение» народа Израиля – «принести конечное избавление всему человечеству»? Вам это ничего не напоминает?
Так чего не скажешь в праздник! Это самое «конечное избавление всего человечества» и нам помстилось весной 1917 года, так что даже некоторые члены царской фамилии нацепили красные банты!
А как начались потом будни…
(Опубликовано в №119, март 2002)
Скорлупчатая тьма
Майя Каганская
Апология жанра
М.: Текст, 2014. — 656 с.
Ее имя — Майя Каганская — возникло в моем окружении к середине шестидесятых годов.
В мое окружение неизменно входили участники знаменитого на весь филфак семинара Владимира Турбина. Даже и через десять лет после окончания университета мои связи там сохранялись.
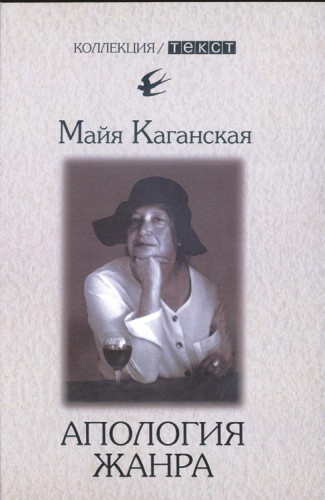
Там-то, в турбинском семинаре, я и услышал, что с Украины приехала выпускница киевского филфака, пишущая неслыханные статьи. Какие? Тут определения задирались. Фактично неопровержимые. Реалистично непредсказуемые. В общем, немыслимые.
Встретиться и познакомиться тогда не довелось. Тем более что производительница этих текстов отбыла в Израиль. Слухи о ее литературно-критических успехах доносились уже оттуда. Там я и познакомился с ней, когда в конце 1970‑х годов командировкой занесло меня на пару дней в Тель-Авив. Друзья привели меня в редакцию журнала «22», в коем я немного печатался, Майя была там уже чуть ли не главным критическим пером. Я предстал. Помню, мне почему-то хотелось, чтобы она была хороша собой. Так и оказалось, и пока я оценивал свою догадливость, завелся у нас бойкий разговор, зацепившийся за общеинтересные проблемы. И так же быстро замер… Пока Майя ядовито высказывала претензии антисоветские, я воспринимал это в ее эмигрантском положении как дело естественное, но потом в ее претензиях почудились мне нотки антирусские. Я вежливо завершил разговор. И встречу.
Больше мы не встречались. Срок моей командировки истёк, и следующие слухи о литературных успехах Майи доходили до меня уже привычным образом — через знакомых, читавших израильскую прессу: статьи были на иврите, то есть вне моих читательских возможностей, но и те, что были по-русски, до нас не доходили. Слава ее, однако, росла — репутация обрастала новыми слухами справа и слева. Публикации множились — большей частью в израильской прессе, хотя иногда и в малодоступных у нас диссидентских изданиях вроде парижского «Синтаксиса». А круг интересов взывал к нашему вниманию: это были сплошь комментарии к русской классике ХХ века и к текущей российской современности.
Полноценного издания — выхода книги в России — М. Каганская, «автор сотен статей и эссе (оценка комментаторов. — Л. А.) при жизни так и не дождалась». Учитывая ее характер, я думаю, что она этого и не дожидалась. Во всяком случае, никогда и не намекала на такое ожидание. Книга теперь вышла — тысячным тиражом в московском издательстве «Текст» — через три года после того, как Майя тихо упокоилась в Иерусалиме в 2011 году и была похоронена на Масличной горе.
Я думаю, что эта книга — «Апология жанра» — достойна стать событием в нынешнем русском литературоведении. Если будет прочитана. А чтение это непростое. И не легкое для скользящих умов. Шестьсот страниц убористого текста плюс комментарии издателей, пораженных энергией и энергетикой автора. Разделы: «Скрипка в пустоте», «Русский бес», «Шутовской хоровод». И в таком вызывающем стиле — несколько десятков портретов из русской словесности. От Хомякова до Чехова, от Набокова до Булгакова, от Замятина до Катаева, от Солженицына до Евтушенко, от Бахтина до Платонова и от Надежды Мандельштам до Ольги Фрейденберг.
Разумеется, и эти замечательные фигуры, и еще десятки корифеев, обрисованных попутно, здесь не исчерпаны; разумеется, характеристики, иногда хитро противоречивые, взывают к дальнейшему рассмотрению, то есть к уточнению портретов; разумеется, это полезный и плодотворный вариант усвоения книги Каганской. Но есть еще один вариант, который в данном случае кажется мне предпочтительней: оценить еще одну фигуру — самого автора этих разборов. Почувствовать ее руку, ее стиль, ее подход. И в конечном счете — ее мироконцепцию.
Начав, естественно, с тех элементов, в которых этот стиль продемонстрирован с особым, вызывающим блеском. Вот зачин статьи «Платонов, Сталин и тьма»: «Имя: Андрей. Имя отца: Платон. Фамилия: Климентов. Национальность: русский. Профессия: гениальность. Область применения: литература». В складном портрете одна деталь выпадает из перечня. «Гениальность». Об этой черте ровно ничего нельзя сказать, кроме того, что она — есть. Остальное сцепляется или расцепляется, а «гений» маячит как факт.
Иногда факт невыносим. Именно потому, что необъясним. Каганская охотно употребляет слово «гений», и оно нигде ничего не означает, кроме факта гениальности. Но побуждает в свете этого факта перебирать остальные признаки. Из рассыпанных черт должен собраться образ.
Так, может, это вот рассыпание, расчленение, рассечение и есть суть образа? Россыпь единиц. Пляска теней. Ритм перечней. Узор пунктов, включая прочерки. Ткань текста такова, что легко не пройдешь. Она дырчата, игольчата, крапчата. Она цитатна. «Цитаты-блоки, цитаты-плиты, цитаты-кирпичики». Текст грозит оборваться в центон — монтаж ссылок. С приглашением читателю додумать, дополнить, дописать. С пониманием того, что все видимое — лишь тени какой-то иной реальности. Можно сказать и так: это тени, ритмы, песни смерти, вытесняющей жизнь, превращающей жизнь в рваный черновик. Есть ли общий смысл в такой скорлупчатой тьме?
Есть. И возникает он у Каганской помимо сюжетов, идей и характеристик. Как мелодия. Надо только уловить мелодию сквозь подхваты интонационных дуэтов, в которых издевка весело совмещается с восторгом, и в каждом восторге прячется издевка.
С. Шаргородский в примечаниях пытается отнести эти «штрихи» либо к восторженным, либо к издевательским и наконец находит взвешенную формулу: фигура оппонента у Каганской «обыгрывается». Художник книги тоже включился в это «обыгрывание», поместив на обложке портрет Каганской: она за столом при бокале красного у локтя, в модной шляпке… что-то театральное. Что-то загадочное в улыбке. Что-то «обыгрывается». «Шутовской хоровод»?
Обыгрывается у Каганской все, к чему она прикасается. Для читателя это увлекательное соучастие в разгадках, но я не склонен в этом участвовать. Мне интересней в книге Каганской сокрытый там автопортрет — образ времени и еще — общечеловеческий диагноз эпохи, Дом Бытия, выход из которого упирается в Смерть.
Итак, портрет времени. «Ведущая мелодия, общая тема, генеральный сюжет». Приступая к этому сюжету, начну с двойного портрета, исполненного Каганской в ее стиле. То есть когда реальность прочерчивается в словесности, играющей роль реальности. Словесность в данном случае — Солженицын. Вот поразительный приговор, вынесенный Каганской из материалов его дела: «В ненависти Солженицына к Сталину, яростной и бескомпромиссной, без особого труда прослушивается тон брезгливого презрения к «колониальному товару» — азиатскому парвеню, кавказскому выскочке. Иное дело — Ленин: здесь ненависть к своему не только по крови, но и по духу, ненависть к двойнику, которого ненавидишь тем больше, чем лучше понимаешь».
Потрясающе уловлено: Сталин — пришелец, хозяин, явившийся извне. А Ленин — внутри, и потому роль его — предательская, и ненависть к нему — беспредельная. Это — у Солженицына.
У самой Каганской отношение к Ленину не просто ненавидящее, а еще и брезгливо-презрительное. Выведен он в статье «Собачья смерть» как предполагаемый прототип героя булгаковского «Собачьего сердца». Ждешь, не найдется ли у осторожного Булгакова хоть какое-нибудь подтверждение этой критической гипотезы. И тут — казус: в очерке для газеты «Гудок» Ленин, лежащий в гробу «на красном постаменте», описан Булгаковым с полным благоговением! Без тени неприязни!
«— Это как понимать — гражданин соврамши?» — Каганская собирается с духом. И отвечает: «Булгаков подменил покойника, вместо Ленина уложил в гроб Наполеона». Даже в серое переодел — в «цвет наполеоновской империи». Пусть булгаковеды решают, в какой мере это переодевание корректно для образа мыслей Булгакова. Я решаю другой вопрос: об образе мыслей Каганской. Для нее даже тень Наполеона дает надежду преодолеть морок ленинизма. Обещает отменить этот «религиозный культ освободительной и спасительной смерти» — это она о нашем Мавзолее, уравнявшем жизнь со смертью.
«Короче, он, Булгаков, видит конец света. И у этого конца имя — Ленин». А Сталин? «Страшно вымолвить», — решается Каганская и бесстрашно завершает свой сюжет: «После Ленина Сталин представляется нормализацией, возвращением к человеческим — не человечным, нет — человеческим критериям».
Вот что делает с героями истории даже слабый отсвет наполеоновской империи! Сталин описан Каганской в интонации, в которой нет и следа презрения. Ибо он рожден «от воздуха русской империи». Хотя рождение это и «незаконно». Исток — «из народа, пропахшего бараньим жиром, кизяком, чувяком и чесноком — всеми запахами исторической неудачи». Удача ждет далеко от родного Гори — уроженец Грузии выбирает другой народ и другой путь. И что же? Пришелец, чужак, инородец — не ошибся! «Выбрал правильно, хорошо выбрал… Народ — богоносец… который не боится умирать, потому что верит в бессмертие».
Что же помешало Сталину дотянуть до Наполеона в деле восстановления империи, которую разрушил, размотал, распустил Ленин? Я подхожу теперь к самому сильному, даже, пожалуй, решающему художественному мотиву в симфонии мироздания, развернутой у Каганской. Вроде бы — «место действия». Но роковым эффектом проступает это «место» — сквозь все извивы повествования.
Цитату мне! Цитату!
«Кончается империя — начинается русская провинция… Вместо столицы — город, вместо города — городок, вместо городка — огород, а сразу за огородом — лес, поле, пустошь… Там жизнь продолжается без человека, там беспамятство, русская нирвана, омуты бытия, в которых черти водятся… Неуверенны и зыбки очертания человеческой личности, неплотно пригнана к человеку человеческая личина…» Изгнать русского беса, в сущности, невозможно. Он намертво связался с сезонными циклами и календарными обрядами, с деревней, хутором, слободкой, предместьем, печью, подпольем, чердаком, короче — со всей той бедной областью человеческой жизни, где веками проживает большинство русского народа…
Что же это? Уже не деревня — еще не город. Промежуточное бытие: не сон — дрема. От рождения до смерти — «один глубокий, сладкий, протяжный зевок — успеть бы рот перекрестить…». Между жизнью и смертью нет границы — жизнь просто инобытие смерти, это другая сторона обреченного на смерть бытия.
Есть ли координаты, в которые можно уложить этот хаос? Есть. Космос. Хаос и космос — полюса каганского миростроя. Россия — хаос. Противодействие хаосу может быть революционным, может быть контрреволюционным — и все равно оборачивается хаосом. Спасительны только теплые углы в этой сплошной русской мгле.
Интеллектуалы, где вы? Спасаются юродством. Кричат: «Цитату мне! Цитату!» Цитата — признак космоса в противовес хаосу? Есть варианты противовеса? Есть. Даже два. Первый вариант — Античность. Эллада, чудившаяся Мандельштаму. Космос европейский. Вечно дразнящийся Запад.
Почему Россия — не Запад? Кто отвратил? Кто виноват? Вроде бы и там, и тут — христианство? Но там — это не тут. «Христианство, победив в мировом масштабе, изгнало веселое племя обитателей лесов, рощ, водоемов, всех этих неуемных фавнов, насмешливых сатиров, обольстительных наяд и дриад, за пределы человеческого космоса, загнало их в расщелины и пещеры, все, какие ни есть, подполья, короче — в ад, нарекло бесами и прокляло во веки веков». Бесы виноваты. Бесы увели нас с Запада. Черти! В русском языке «черт» и «бес» синонимы. И Сатана тут как тут. Мраморный космос сохранился там — тут разверзлись хляби хаоса. А ведь пытались! Строили мосты! Мечтал Мандельштам увидеть «блистательный покров, наброшенный над бездной». Русское слово перехватывало старые жанры европейской культуры. Тешилось апологией жанра!
А что такое Россия, пытающаяся стать Западом? Слушайте: русская мощь извергается из разинутых трубных глоток, по пятам преследует «Марсельезу», вольтерьянку и вольнодумку, соловьем-пташечкой-разбойником разливается по улицам и площадям европейских столиц и, «наигравшись досыта, затихает, убаюканная сладким перезвоном московских малиновых колоколов». Такой вкусной картинкой завершается у Каганской европейская версия русского спасения от хаоса. Сладко. Но горько.
Куда ближе ей другая версия нашего спасения — через космос иудейский.
Иудейское начало, требующее всеохватного слова о мире и незыблемой иерархии ценностей изначально противостоит хаосу. Надо только «уворовать гнездо» — приобщиться к жизни «чужого племени», обрести для своего духа почву. Не отсюда ли — несмотря на вековую погромную резню — фатальная тяга евреев в русскую революцию? Их же тянет не просто «остаться с Россией», но с Россией «какая она есть».
Впервые за бесконечную череду столетий евреи из «народа, живущего отдельно» и взирающего на историческую суету и дрязги «с той стороны», смогли воссоединиться с человечеством «на основе столь близкого им учения: четкое распределение добра и зла, слияние народов без наций и государств, социальная справедливость, законы истории, неотменяемые, как законы Торы, и т. д. И креститься, слава Б-гу, не надо».
Результат известен: Россия остается как она есть, евреи (те, что уцелели) тоже остаются — со своими проблемами. Каганская уносит их проблемы с собой в Израиль. И расстается с Россией. Навсегда. Что же уносит она, захлопывая за собой дверь?
Тридцать лет осознанного русского опыта, если считать не биологический возраст с момента рождения в 1936 году, а искать момент первого самоосознания? Что это за момент? Возглас школьной учительницы в притихшем классе:
— Если будете хорошо отвечать образ Павки Корчагина, я почитаю вам Чарскую!
Киевская школьница отвечает хорошо. Текут 1950‑е годы — «туда уходит юность». Начинаются 1960‑е. Состязание столиц. «Разнокалиберное многоголосье, оттепельная растекашица». Языки молодым развязывают Ильф и Петров. Парад цитат — от «Двенадцати стульев» к «Золотому теленку»: от русской провинции к библейской пустыне. И к родным классикам без всякого Павки Корчагина. «Эпоха Толстоевского». 1970‑е годы. Почвенническая лихорадка. «Генеалогия, предки, род, семья — все дремучее, кровное, вязкое». Не вынести! Распад, прощанье, уход. Пока Корчагин перемогался с Чарской, — жили двойной жизнью. Теперь надо было жить «двумя жизнями».
Первое получилось. Второе — нет.
А в Израиле — получилось? «Христианский персонализм» — в споре с «иудейским коллективистским избранничеством». Этот спор разрешен? Он разрешим? Жизнь между магией еврейского государства и магией теократической общины — это две жизни или одна? А если государственный космос, утвердившись в реальности, сомнет правду общины, — что тогда? А если общинная правда, утвердившись в сфере духа, подорвет государственную устойчивость, — что тогда? Опять хаос? Скорлупчатая тьма…
Эти вопросы встают перед сознанием в любую эпоху в любой точке мироздания. Если до них дострадаться.
Майя Каганская свое отстрадала.
(Опубликовано в №268, август 2014)

Илья Сельвинский и его «державные семинаристы»

The New Yorker: Романы Ольги Токарчук — против национализма

