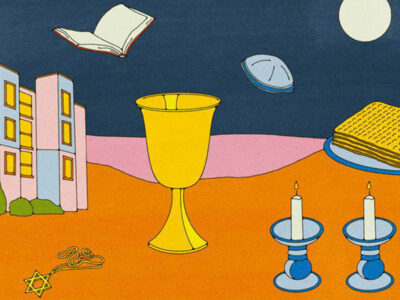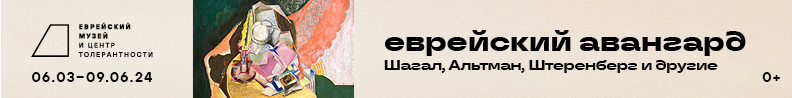[parts style=”clear:both;text-align:center” captions=”true”]
[phead] [/phead]
[/phead]
[part]
Ульрике Гроссарт
Вена, Фонд Дженерали,
до 29.6
Это первая большая ретроспектива немецкой художницы — и, кажется, многие пожалеют, что открыли для себя ее имя так поздно. Гроссарт работает над долгими проектами, самые ранние из них относятся к концу 1970-х, когда она еще занималась современным танцем. Это отразилось на тогдашних сюжетах, в чем убеждает первая часть выставки «Если бы я была тканью, то покрасилась бы».
C 2006 года Гроссарт создает «люблинский цикл», связанный с «городом Торы, раввината и благочестия». Люблин, с его знаменитой ешивой, называли «польским Иерусалимом», а после переезда сюда в 1790 году Яакова-Ицхака Горовица он стал хасидским центром. В начале ХХ века евреи составляли половину населения города, но нацистскую оккупацию пережили лишь 237 человек.
Сплавляя старые фотографии и язык инсталляций, Гроссарт работает с образами еврейского Люблина эпохи его расцвета — 1920–1930-х годов, много внимания уделяя мистической стороне талмудического иудаизма — Шхине. Автор ведет и диалог с важнейшей для себя книгой — «Vita novа, или О деятельной жизни» Ханны Арендт.
Эта выставка станет последней в венском периоде истории Фонда Дженерали, знаменитого своей работой в области современного искусства. Летом фонд переезжает в Зальцбург, его коллекцию передадут на хранение в тамошний Музей модерна.
[/part]
[phead] [/phead]
[/phead]
[part]
Сокровища еврейского гетто Венеции
Вена, Зимний дворец,
до 6.7
С момента своего основания в 1516 году и вплоть до закрытия согласно наполеоновскому указу в 1797-м Венецианское гетто считалось одним из крупнейших не только финансовых, но и культурных центров Европы, местом притяжения издателей и ученых (см.: Алексей Мокроусов. Венеция и гетто // Книжные новинки, Лехаим. 2014. № 4). Синагоги продолжали работать здесь и позже. Их сокровища два престарелых служителя спрятали в крупнейшей синагоге города Scola Espagnola в сентябре 1943-го, когда немцы вошли в Италию. Оба старика погибли в лагерях смерти. Спасенное ими нашли уже в наше время.
Сокровища, вошедшие теперь в коллекцию Еврейского музея Венеции (к 500-летию гетто его заново откроют в отреставрированном здании), находились в очень плохом состоянии, в некоторых случаях даже невозможно было понять, из какого материала предметы сделаны. При поддержке некоммерческой организации «Venetian Heritage» и фирмы «Vhernier» их специально отреставрировали, прежде чем отправить в мировое турне; ход реставрации и возникшие при этом трудности описаны в каталоге, вышедшем на немецком и итальянском языках. После длившихся почти полтора года выставок в Америке настала пора Европы. Начали с самой Венеции, продолжили Веной.
Среди показанного — множество предметов религиозного назначения, датируемых XVII—XIX веками и сделанных большей частью из серебра и бронзы в лучших ювелирных мастерских Венеции. В их числе ковчег для Торы начала XVIII века, лампы нер тамид, блюда-кеара для седера, многочисленные парные серебряные навершия для свитков Торы (римонимы), в том числе датированные 1820-ми годами, когда Габсбурги владели Городом на воде.
[/part]
[phead] [/phead]
[/phead]
[part]
Квартира-музей
Москва, Музей личных коллекций
до 17.8
Музей личных коллекций (так изначально назывался проект Ильи Зильберштейна, позднее, в силу бюрократических причин, вошедший в состав ГМИИ им. А. С. Пушкина как Отдел личных коллекций) обрел еще одно здание. Первая выставка в новом помещении создана на основе частных собраний и посвящена квартирам и мастерским художников и коллекционеров, выглядящим как готовые музеи. Здесь и воссозданный дом семьи Штеренберг—Алфеевского, и квартиры собирателей Игоря Сановича и Романа Бабичева, и художественное пространство, созданное Леонидом Тишковым в честь полузабытого автора предвоенных лет Дмитрия Тархова. Показывают и мастерскую архитектора Якова Чернихова (1889–1951), выдающегося мастера конструктивизма, теоретика и визионера.
До революции Чернихов, уроженец Павлодара, выходец из еврейской семьи с 11 детьми, учился в Одесском художественном училище, а также в Петербургской академии художеств у Леонтия Бенуа. Расцвет его творчества приходится на первые советские годы и связан с промышленной архитектурой. Из его заводов и фабрик мало что сохранилось, но время редко краснеет от подобных упреков. Когда конструктивизм насильственно изгнали с художественной сцены, Чернихов переключился на преподавание и писание книг. Наборы многих из них были рассыпаны в последнюю минуту, но те, что успели выйти, — среди них «Конструкции архитектурных и машинных форм» (1931) и «Архитектурные фантазии. 101 композиция» (1933) — стали настольными для целых поколений, их переводят и переиздают до сих пор. Архитектурные фантазии Чернихова стоят в одном ряду с графикой Пиранези и Клода-Никола Леду, что служит слабым утешением жалеющему о недопроявленной судьбе.
[/part]
[phead] [/phead]
[/phead]
[part]
Вена—Берлин
Вена, Нижний Бельведер
до 15.6
В начале ХХ века обе европейские метрополии переживали развитие невиданными прежде темпами, хотя и не теряли своего лица. Берлин не испугался бы сравнения с американскими городами, Вена же оставалась столицей оперетт и барокко. Тем не менее ее население за четверть века, начиная с 1890-го, увеличилось почти вдвое. Среди приезжих преобладали чехи, венгры и евреи Галиции — притом что антисемитизм власти процветал всюду. И венский бургомистр, и его берлинский коллега немало очков в успешной политической борьбе набрали благодаря ксенофобии. До поры до времени это почти не касалось художников, а именно связям столиц в изобразительном искусстве посвящена выставка в Бельведере — в отличие от контактов литераторов, музыкантов и людей театра, эти связи раньше почти не исследовали. Меж тем многие авторы успели в 1920-х поработать в обеих столицах — например, Фридрих Кислер, идеи которого в области экспонирования даже были использованы в нынешней выставке (Алексей Мокроусов. Из Черновцов в Нью-Йорк. По дороге везде // Лехаим. 2013. № 6).
Охват эпох с точки зрения десятилетий невелик, но в художественном отношении огромен — от Сецессионов (берлинский, под руководством Макса Либермана, с его ориентацией на импрессионистов, был консервативнее венского) до 1930-х годов, включая экспрессионизм и «новую вещественность». Среди выставленного — полотна Густава Климта и Конрада Феликсмюллера, Эгона Шиле и Ласло Мохой-Надя, Людвига Майднера и Оскара Кокошки. Тех, кто дожил до 1930-х, ждали разные судьбы. Одни, как Кристиан Шад, благополучно пережили смену режимов, другие, как Наум Габо, смогли бежать от нацизма, кого-то, как Феликса Нусбаума и Фрица Шварц-Вальдега, ждала смерть в концлагере.
[/part]
[phead] [/phead]
[/phead]
[part]
1900—1914. Экспедиция в счастье
Цюрих, Национальный музей Швейцарии
до 13.7
Эффектно сделанная выставка о последнем «золотом веке» европейской истории. В огромном полутемном зале собрали три сотни фотографий, объектов, картин и лент кинохроники, напоминающих о быте и повседневных радостях начала столетия. В Цюрихе вспоминают мыслителей и спортсменов, изобретателей и модников, писателей и живописцев, определивших дух эпохи, но не ее течение. Здесь обсуждают идеи Фрейда, тексты Кафки и Пруста (даже воссоздали знаменитую «пробковую комнату», в которой создавалась эпопея «В сторону Свана»), показывают картины Шенберга (венский центр его имени — среди двух десятков участников выставки) и выглядящий едва ли не комично с точки зрения современного дизайна гоночный автомобиль «40-60 HP Aerodinamica» образца 1914 года от «Alfa Romeo». Марка известна и сегодня, а вот того мира уже не вернешь. Разразившаяся в августе 1914-го катастрофа толком так и не кончилась, конец эпохи Просвещения — не единственный ее необратимый результат. К счастью или нет, человечеству не дано прозревать свое будущее, период затишья между бурями воспринимается им как вечный, в опасности оно не верит, а провидцев готово держать за чудаков и сумасшедших. Зато сколько силы, сколько энергии в этих заблуждениях!
[/part][/parts]
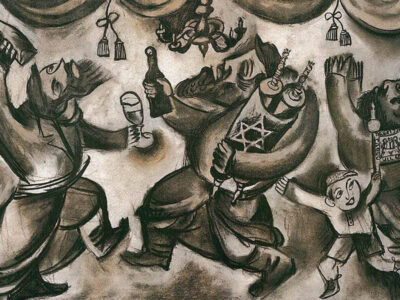
«Надо рисовать так, чтобы было видно, что это сделано евреем!»

Пятый пункт: дом, который построил Яаков