[parts style=”text-align:center”]
[phead]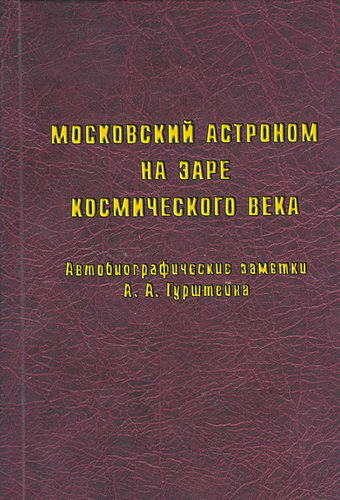 [/phead]
[/phead]
[part]
Физики-лирики и другие
А. А. Гурштейн
Московский астроном на заре космического века. Автобиографические заметки.
Москва: НЦССХ им. А. Н. Бакулева, 2012 — 686 с., илл.
Единственное, чего не хватает этой книге воспоминаний, — именного указателя. Автор, известный советский ученый и популяризатор знания, упоминает о таком количестве людей, из столь разных областей культуры и науки, что одно лишь их перечисление выглядело бы энциклопедией. Михоэлс (о нем писал отец мемуариста, известный в 1930-х критик и специалист по еврейской культуре Арон Гурштейн), Королев, Келдыш, Иосиф Шкловский, К. П. Флоренский (с ними мемуарист работал в 60-е), Кронид Любарский (с ним дружил)… Не менее интересными оказываются заметки 77-летнего Александра Гурштейна о многочисленных коллегах по науке и журналистах — их имена сегодня мало кто помнит, но в книге им уделено много внимания. Автор оказывает неоценимую услугу историкам, раскрывая псевдонимы тех ученых, которые из-за требований секретности были вынуждены скрывать в прессе и книжных публикациях свои подлинные имена.
Сам Гурштейн работал во многих интересных местах, от Института космических исследований и ГАИШа — астрономического института имени Штернберга до королевского ОКБ-1 и Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова, где он какое-то время числился и после своего отъезда в Америку в 1995-м.
В итоге рождается портрет времени — несколько хаотичный, с не всегда логичными ответвлениями в сюжете и порой слишком очевидными комментариями-пояснениями, но в целом очень живой и увлекательный.
О чем бы астроном ни писал — будь то поведение академика Сагдеева (Гурштейн говорит о нем как талантливом человеке и при этом самодуре и «вульгарном себялюбце») или жилищный вопрос, сотрудничество с журналом «Природа» и работа над лунной программой СССР — он всегда увлечен происходящим так, словно проживает его впервые.
Гурштейну достает спокойствия при воссоздании событий, которые иного легко способны вывести из равновесия. Он не раз оказывался в эпицентре антисемитских водоворотов, не миновавших и святая святых советской жизни — космическую отрасль. Так, несмотря на прямое указание Королева принять Гурштейна на работу, сотрудники отдела кадров и «секретчики» промурыжили его несколько часов, пытаясь разобраться, за какие такие заслуги беспартийный еврей получает допуск к материалам повышенной секретности в главной ракетостроительной фирме страны. Уж не родственник ли он Генеральному Конструктору? В итоге их успокоил лишь вкладыш в диплом, где стояли одни пятерки: круглого отличника, пусть и с неверным пятым пунктом, решили больше не мариновать.
Сложной и долгой оказалась история с защитой кандидатской диссертации рассказчика. В силу бюрократических причин — астрономический совет по диссертациям в Москве был один — ее приходилось защищать на физическом факультете МГУ. Физфак в бытность там деканом В. С. Фурсова был, на взгляд Гурштейна, рассадником юдофобства в советской научной жизни, «самым агрессивно-антисемитским факультетом университета». Как иронично пишет мемуарист, «соискатели с еврейскими фамилиями на [Ученом] совете физфака вообще не возникали. Нравы физфака были по Москве широко известны. Соискатели с указанными недостатками предпочитали для защиты иные места».
В итоге защита растянулась на несколько месяцев и сопровождалась таким количеством интриг, что просто диву даешься: когда же люди успевали работать, да еще и добиваться при этом удивительных результатов?
Гурштейн — не только автор множества научных публикаций. Он придумывал издававшиеся миллионными тиражами настольные игры, причем не только «Астрономию» и «Приключения на Луне», но и «Швамбранию», писал об астрономических мотивах в поэзии Волошина и занимался популярными книгами о науке для детей. Возможно, для историков самым ценным в книге станут описания «космического» периода в жизни рассказчика, его участие в работе над лунным атласом и в деятельности аварийных комиссий, разбиравших причины неудач иных запусков. Но для читателя, интересующегося интеллектуальной жизнью в Советском Союзе, его повседневностью и бытом, «Московский астроном» — отличный источник заметок и наблюдений. Сцена, когда академик Иосиф Шкловский в 1961 году на память читает студентам в самолете стихи Гумилева, достойна хрестоматии. В том же году Шкловский процитировал Гумилева в «Известиях», что привело к небывалому скандалу — сравнимому с тем, что вскоре сам Гурштейн породил цитату из Волошина в «известинской» статье о луноходе. Об отношениях физиков и лириков сегодня написано немало, но такие яркие примеры из их истории вспоминают немногие.
[author] Алексей Мокроусов[/author]
[/part]
[phead] [/phead]
[/phead]
[part]
Стерпится — слюбится
Эстер Гессен
Белосток — Москва: мемуары
М.: АСТ: CORPUS, 2014–224 с.
Вышли книгой законченные в 1996 году воспоминания Эстер Яковлевны Гессен, польской еврейки, а к моменту написания мемуаров — старой москвички, переводчицы с польского и на польский, невестки пушкиниста Арнольда Гессена и бабушки журналистки Маши Гессен.
Мемуаристка родилась в 1923 году в польском Белостоке в еврейской семье и детство провела в сугубо еврейской среде: «у меня первые знакомые и друзья — неевреи появились только в России». Ученица ивритской гимназии и пламенная палестинофилка, Эстер собиралась ехать учиться в Иерусалимский университет, но с началом второй мировой войны и присоединением Белостока к Советскому Союзу вынуждена была круто поменять планы и отправилась в Москву поступать в ИФЛИ. Окончила она его уже как филфак МГУ после войны, что совпало с разгаром сталинской антисемитской кампании, и ни в аспирантуру, ни на работу ее не брали. После долгих мытарств ей удалось устроиться в польскую редакцию журнала «Советская литература» на иностранных языках, где она и проработала до самого закрытия журнала в начале 1990-х. Во второй части мемуаров, по событийной насыщенности и вписанности в исторический контекст заметно уступающей первой, речь идет о жизни в московской коммуналке и получении отдельной квартиры, двух браках, трех детях и их образовании (первостатейный вопрос для еврейской интеллигенции), приобретении дачи, турпоездках и командировках в Польшу, отказничестве и эмиграции старшего сына в Америку, постперестроечных выездах в Америку и Израиль и впечатлениях от этих поездок.
Книга отвечает развившемуся в последние годы и выразившемуся, например, в целом ряде журналистских проектов в жанре устной истории интересу к частной истории — истории советской эпохи, поданной сквозь призму жизни обычного, «маленького» человека. Мемуары Эстер Гессен включают все основные вехи подобного нарратива с добавлением очень важной для автора еврейской линии: начало войны («молодежь толпами осаждала военкоматы»), трудности работы в тылу («чтобы не портить отношений с коллективом, выпивала за смену не меньше чем пол-литра»), ликование Дня Победы («то и дело подбрасывали в воздух каких‑нибудь известных деятелей
Эстер Гессен почти не рассказывает жутких историй или, по крайней мере, не рассказывает их как жуткие, и тем не менее в ее мемуарах хватает сюжетов, демонстрирующих чудовищные искажения, произведенные в нормальной реальности двумя режимами. Взять романтические отношения: влюбленность выражается в готовности заступиться за девушку перед нквдшником, и этот поступок становится для девушки решающим аргументом в пользу замужества. Или взять релятивизацию зла, когда одно зло спасает от другого и как бы перестает быть злом: советские власти на оккупированных польских территориях расправлялись с членами разных партий, отправляя их в тюрьму, а членов семей — в ссылку; мать Эстер выслали за Урал, и она осталась в живых, отца же не успели судить (за сионизм) и отправить в лагерь, он остался в тюрьме в Белостоке, после немецкой оккупации попал в гетто и погиб в Майданеке.
Но основной нерв этих мемуаров — история любви, долго зревшей любви к новой родине, каковая, казалось бы, по целому ряду очевидных причин заслуживала чувств прямо противоположных; или, иными словами, история не-эмиграции при всех предпосылках к эмиграции.
С советской действительностью Эстер познакомилась только в 17 лет и все время сравнивала новые реалии с жизнью в довоенной Польше. Сравнения эти содержат хорошо известную еще со времен Речи Посполитой оппозицию: Польша как Европа и цивилизация, Россия как Восток и варварство. Однажды ее хорошо сформулировала мать мемуаристки; когда эшелон польских ссыльных привезли на Алтай, заселили в совхоз и приказали рыть ямы под сортиры, она не выдержала и закричала: «Ну да, двадцать четыре года советской власти вы по нужде ходили за сарай, и вам надо было везти польских интеллигентов за пять тысяч километров, чтобы здесь насаждать цивилизацию!» Советская бедность под руку с варварством впервые явились в Белосток в лице командиров РККА, которые опустошали магазины («Военный входит в магазин и спрашивает, например, есть ли в продаже сорочки. “Есть”, — отвечает продавец. “Дайте, пожалуйста”. — “Сколько?” — “Все”»), после чего командирские жены щеголяли в шелковых ночных рубашках, считая их вечерними платьями. Приехав в Москву, Эстер была поражена убогостью одежды («хотя одета я была более чем скромно, мой наряд так выделялся на общем фоне, что все узнавали во мне иностранку») и жилищных условий москвичей («в Польше о коммуналках никто и слыхом не слыхивал»), а сама, в свою очередь, ошеломила своих сокурсников, не выучивших в советской школе ни одного иностранного языка, тем, что в ходе экзаменационного ответа свободно чередовала русский, английский, идиш и иврит.
Гессен отмечает как тотальную отсталость «страны победившего социализма», усугубленную неприкрытым презрением власти к человеку, явленным во всем: от террора тайной полиции до проведения кесарева сечения без наркоза, так и порок самого общества — отсутствие гражданского сознания и критики режима («характерной чертой советских людей было и, в сущности, остается до сих пор непоколебимое доверие к печатному слову
Как бывшая польская гражданка, Гессен имела право репатриироваться в 1946 году, а затем — в 1956-м, но оба раза не смогла этим правом воспользоваться, имея «рожденного в СССР» мужа и общих детей. Воспитанная в сионистской семье и сионистской школе, она лелеяла мысль об эмиграции в Израиль и позже, будучи там в гостях, «испытала совершенно незнакомое прежде чувство», что она «у себя, в своей стране, на своей земле». Но старший сын, «рационалист и прагматик», предпочел Америку, а в Америку она переезжать не хотела и, оказавшись там впоследствии в гостях, только утвердилась в своем нежелании, шокированная бескультурьем американцев, «кладущих ноги на стол» и «не умеющих пользоваться ножом и вилкой». В результате польская еврейка, волею политического размена оказавшаяся в Советском Союзе, всю жизнь «ненавидевшая эту страну и мечтавшая выбраться отсюда», пока что так и не эмигрировала. «Только относительно недавно, — объясняет она, — я поняла, что ненавидела не страну, а господствовавший в ней режим, и, когда этот проклятый режим наконец рухнул, я почувствовала, что пустила здесь глубокие корни, привязалась к российской природе, к людям, вросла в местную жизнь. И даже слушать не хочу, когда мои американские дети уговаривают меня переехать к ним на постоянное жительство. Навещая их в США, я особенно остро ощущаю, как чуждо мне там все и как мне близка Россия».
Впрочем, не надо забывать, это было написано в 1996 году.
[author]Галина Зеленина[/author]
[/part]
[phead] [/phead]
[/phead]
[part]
Закон обратимости
Елена Минкина-Тайчер
Эффект Ребиндера
М.: Время, 2014. — 352 с.
Роман Елены Минкиной-Тайчер — это панорама российского ХХ века, увиденного сквозь судьбы множества персонажей: русских, евреев, «парижан», «американцев», репатриантов в Израиль. При сравнительно небольшом размере текста поражает его «густонаселенность» и хронологический диапазон событий. Автор отслеживает истории семей своих героев в трех-четырех поколениях. Основное действие разворачивается в течение второй половины ХХ века, но читателя то и дело возвращают в предшествующие времена. Это придает роману некоторую конспективность и мозаичность. Несколько самостоятельных саг, причудливо сплетаясь, образовали увлекательное психологическое повествование с элементами «семейного детектива».
Сюжетное ядро романа — судьбы нескольких московских школьников, вступающих во взрослую жизнь в середине 1950-х. У одних отцы погибли на войне, у других были репрессированы родственники, а у кого-то «подкачало» происхождение. Лева Краснопольский — одаренный скрипач, трудоголик, «человек-оркестр», неисправимый ловелас. Его будущая жена Таня Левина — дочь невропатолога, объявленной в начале 1950-х «вредителем»; впоследствии — ученый-химик. Танина подруга Ольга Попова — внучка «кулака» и сельского священника, девушка строгих принципов, любительница байдарочных походов. Ее младший брат Володя — студент физфака, затем преподаватель и инженер оборонного завода. Физикой занимается и Матвей Шапиро: он из плеяды ученых-шестидесятников, веселых бородачей, прекрасно разбирающихся и в строении атомного ядра, и в гитарных аккордах. Его старший друг, гениальный физик Александр Гальперин, женат на Кире Катениной — сероглазой красавице и отличнице, чей дед-эпидемиолог вернулся с семьей из Франции в СССР до войны и вскоре умер в Средней Азии, заразившись тропической лихорадкой, от которой спасал людей.
В Киру влюблены все парни и даже девчонки в школе. Еще бы: девушка из дворян (об этом не говорят вслух, но всем известно), свободно говорит по-французски, живет в большой отдельной квартире с «музейной» мебелью, внучка выдающегося ученого и правнучка поэта-декабриста, которому посвящал стихи Пушкин (а Таня и Оля — восторженные почитательницы поэзии; вообще, роман насыщен возвышенной «пушкинской» атмосферой). Но кто бы мог подумать, что одна из таинственных семейных историй связывает Катениных с предками некоторых других персонажей? Начать эту историю можно было бы так: «Жили-были в России начала ХХ века три подруги, три еврейские барышни из состоятельных семей…» За хитросплетениями сюжетных линий тут надо следить внимательно: чуть упустил нить — и красота узора пропадает. Ритм происходящего — живой, пульсирующий, автор ведет повествование с постоянными экскурсами в прошлое, симметричными сюжетными ходами и взглядами на одно событие с разных точек. Конструкция романа выстроена виртуозно, и все линии в конце концов сходятся в «точку сборки».
В каждой из семей — своя драма, свои потери. Кто-то из родных погиб во имя науки, кто-то не вернулся с Великой Отечественной или палестино-израильской войны. Кому-то из персонажей буквально посчастливилось остаться в живых. Так, мать Матвея успела уехать с ребенком в дальнюю деревню из Москвы, где арестовали ее мужа, видного партийца и комиссара Леонарда Шапиро (сына известного еще до революции киевского врача). А дочь репрессированной старшей дочери профессора Катенина, умершей в лагере, взяла на воспитание простая женщина из северной глубинки. Измены здесь соседствуют с романтическими влюбленностями, замужние дамы соблазняют симпатичных студентов. Этот инстинкт продолжения жизни позволяет героям книги победить беды ХХ века — войны, террор, государственный антисемитизм, взбунтовавшийся «мирный атом». И тем самым как бы преодолеть «эффект Ребиндера» (многократное падение прочности тела вследствие обратимого воздействия среды), который открыл замечательный физик, университетский преподаватель Тани Левиной.
[author]Андрей Мирошкин[/author]
[/part]
[/parts]

Пятый пункт: бай-бай, Байден, речь в Конгрессе, AdidasRIP, Рипс, Руби Намдар

Как хасиду добиться успеха в бизнесе?


