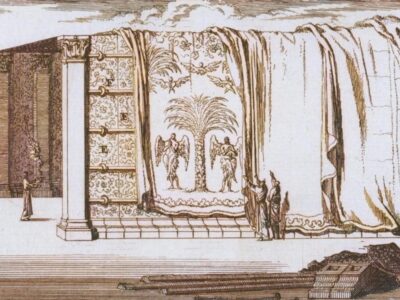Окончание. Начало
ХАРАКТЕРИСТИКА
В 1940 году при окончании МЭИ вместе с дипломом мне выдали характеристику, которую необходимо было предъявить при поступлении на работу.
Характеристика
Мессерер Аминадав Михайлович, 1916 года рождения, окончил в 1940 г. электрофизический факультет Московского энергетического института имени В. М. Молотова по специальности «Автоматика и телемеханика».
Арестован брат. Арестована сестра. Арестован муж сестры (работал на Шпицбергене). За границей (в Германии) имеется родственник (брат отца).
Дана для представления на работу.
С этой характеристикой я пять месяцев поступал на работу, пока не удалось поступить, не предъявив характеристику. В дальнейшем в анкетах я никогда не упоминал Рахиль и [footnote text=’Пояснения имен см. в конце текста.’]Маттания[/footnote], благо кроме них у меня было еще много братьев и сестер, о которых подробно писал, а Миша Плисецкий не являлся ближайшим родственником.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНТИСЕМИТИЗМ
В 1947 году я поступил в аспирантуру МАИ (Московский авиационный институт). Моим руководителем был Виктор Наумович Мильштейн. Ему тогда было 33 года. Он уже был доктор наук, профессор.
В нашей стране на бытовом уровне антисемитизм был всегда. Государственный антисемитизм начался, на мой взгляд, в 1946 году. Расцвел он в 1949 году, а пика достиг в 1952‑м, когда было организовано «дело врачей» и когда в преддверии депортации евреев на Дальний Восток из органов МВД были уволены поголовно все евреи.
В 1949 году антисемитизм цвел под личиной борьбы с космополитизмом. В газетах печатались фельетоны, в которых разоблачаемые персонажи всегда носили еврейские фамилии. На открытых партсобраниях в институтах критиковались профессора, ссылавшиеся в своих статьях и книгах на научные работы зарубежных ученых. Чаще всего эти профессора оказывались евреями. А многие евреи, как простые инженеры и служащие, так и известные ученые и артисты, арестовывались за якобы сионистскую деятельность и связь с недавно образовавшимся государством Израиль.
В МАИ, конечно, тоже были собрания, на которых клеймили ученых, носивших еврейские фамилии или «скрывавшихся» за нееврейскими фамилиями, как «космополитов», преклонявшихся перед иностранцами.
В то время уволиться с работы можно было только с согласия администрации. Но в первых отделах всех организаций имелось распоряжение (мне его показывали в Первом отделе МАИ и предлагали воспользоваться, если пожелаю), в котором администрации рекомендовалось не препятствовать увольнению лиц еврейской национальности, пожелавших уехать в Биробиджан.
В такой обстановке Виктор Наумович решил уйти из МАИ.
К тому времени я сдал на «отлично» экзамены по всем предметам кандидатского минимума (протоколы сдачи экзаменов у меня хранятся до сих пор). Меня из аспирантуры не отчислили, но записали, что тема диссертации, над которой я работал, не соответствует профилю кафедры.
Это означало, что закончить работу и защитить диссертацию мне не дадут.
Я стал искать работу. У меня хранится список 40 организаций, в которые я обращался в течение девяти месяцев с лета 1949‑го по весну 1950‑го. Принимали заявления, анкеты, говорили, чтобы пришел через неделю, и отказывали.
Одним из 40 мест, в которые я обращался, был НИИ, подчинявшийся министру, с которым хорошо был знаком Асаф. Я был на приеме у министра в его шикарном кабинете. Мне позвонил завотделом этого НИИ и сказал, чтобы я завтра выходил на работу, меня возьмут в «карантин» до полного оформления первым отделом.
Однако не тут‑то было: замначальника НИИ по кадрам — полковник госбезопасности — оказался сильнее министра, и меня не приняли.
В конце концов я поступил во Всесоюзную постоянную выставку контрольно‑измерительных приборов.
Там проработал несколько лет, потом умер Сталин, потом был XX съезд, потом стало легче (ненамного). Но мне было уже около 50 лет. Последние 20 лет я работал в проектной организации Госстандарта — проектировал поверочные лаборатории. Был там главным метрологом, главным инженером проекта (ГИП).
В 69 лет вышел на пенсию.
ЖЕРТВЫ ХОЛОКОСТА В НАШЕЙ СЕМЬЕ
У нас была двоюродная сестра Фрида Соломоновна Бастацкая — дочь сестры нашей мамы. Хорошая женщина. Спокойная, добрая, заботливая, всегда готовая помочь. Она жила в Ростове‑на‑Дону. Много раз приезжала к нам в Москву. Подружилась с Элей, переписывалась с ней. В начале войны письма от нее приходили, потом прекратились. Эля писала (из тех городов, где она была с театром), ответа не было. Наконец, в ноябре 1943 года пришло письмо от соседки Фриды. Она писала:
Дорогая Елизавета Михайловна,
Извините меня за долгое молчание, все наводила справки. Очень тяжело мне сообщать Вам грустные вести.
Ваша родственница по каким‑то обстоятельствам не выехала из Ростова.
Немецкие сволочи, чтобы «оградить» еврейское население от «нападок» других национальностей, издали закон — эвакуировать евреев в «безопасное» место. Приказали собрать все необходимое и ценное из вещей, провизии на 3 дня, квартиру запереть на ключ и привесить дощечку с надписью адреса.
11 августа Ваша родственница запаслась продовольствием, взяла зимнее пальто, ценные вещи и явилась на место сбора.
Всех их вывезли за город и расстреляли.
Вот все, что я могла узнать о Фриде Соломоновне Бастацкой. Сведения эти точные, сообщила мне ее соседка, мужа которой расстреляли вместе с Фридой Соломоновной Бастацкой.
Как бы я была счастлива, если бы могла сообщить Вам вести противоположные этим.
Остаюсь Вашей ученицей,
Назарова Е. Г.
17/XI‑43 г.
Кроме Фриды в немецких лагерях смерти погибли 10 наших родственников. Это жившие в Германии брат нашего отца Борис (Борух), его жена Роза и их дочь (наша двоюродная сестра) Дора; жившие в Литве другой брат нашего отца Марк, его жена Дина и их дочь Лия; еще один брат нашего отца Лазарь (также живший в Литве), его жена Пола, их дочь Доррит и сын Азарий.

Александр Мессерер, его сестра Рахиль с детьми Азарием и Майей. Чимкент. 1939
АЗАРИЙ
Азарий — наш старший брат Азарий Михайлович Азарин (Мессерер) — поначалу был комическим актером. Потом у него были драматические, лирические и даже трагические роли. Он был прекрасным рассказчиком и импровизатором. Когда он дома, в нашей огромной семье, рассказывал тут же сочиненные им комические истории, невозможно было не хохотать. У меня, бывало, от хохота болели скулы так, что их надо было придерживать пальцами.
Из таких его рассказов помню два.
Первый. Учитель в школе по имени Илья Иванович вызывает мальчика‑армянина и задает ему рассказать басню Крылова «Ворона и лисица». Мальчик рассказывает: «Панымаешь, Аля Иваныч, адын ворона нашел кусочек сыра, залэз на дэрево и стал кушать. Навстречу бэжит лысыца, хытрый звер, Аля Иваныч. Вэртыт хвостом, говорит: “Спой, Свэтык, ты бы у нас был жар‑птыца”, болше ничэво, понымаешь, Аля Иваныч. Ворона, дура птыца, крыкнула, сыр падал, лысыца хватал, бэгал, кушал.
Из этой басны слэдует марал: езли хочешь кушать сыр, Аля Иваныч, нэ садысь на дэрэво».
Второй. Армянин пришел в магазин купить галстук. Продавец показывает один галстук, другой. Может быть, говорит, вам бантик подойдет? «Какой такой бантык! Ты мнэ дай галстук, чтоб шею крутыл! Вот я тэбэ расскажу: был у меня адын товарыш, так он повздорил с другой товарыш, так тот взял его за галстук и раз, головой об стэнку, понымаешь, два, головой об стэнку, понымаешь, три, головой об стэнку, понымаешь. Гдэ рот, гдэ нос — нычего нэ видно, адын пузыр… А галстук нэ развязался. Вот какой галстук давай мнэ. А что ты даешь мнэ бантыки‑шмантыки!»
Азарий говорил это с неподражаемым армянским акцентом. Все буквально скатывались со стульев на пол.

Майя Плисецкая с бабушкой и дедушкой. Москва. 1927
МАЙЯ
Родилась 20 ноября 1925 года.
Впрочем, не так.
Майя родилась вечером 19 ноября, в день рождения Асафа. Но 20 ноября страна широко отмечала 50‑летний юбилей Михаила Ивановича Калинина — всесоюзного старосты, как его называли, председателя ЦИК (Центрального исполнительного комитета) СССР и, по‑теперешнему, президента страны. И было довольно естественно, что Миша захотел и сумел записать день рождения дочери 20 ноября.
Назвать дочь Рахиль и Миша поначалу думали Светланой (не подумайте, что в угоду Сталину: сталинская Светлана родилась на год позже), но потом передумали и назвали Майей.
Вся наша семья с волнением ждала в последних числах ноября выписки Рахили из роддома. У нас, в квартире у Сретенских ворот, в коридоре было большое окно на лестницу, и вот мы видим, как по последнему пролету поднимается Миша с чем‑то закутанным в одеяло на руках, а за ним идет Рахиль. Майю мы заранее полюбили: это был первый ребенок во втором поколении нашей семьи, и это была дочь самой любимой из всех наших сестер и братьев — нашей Рахилиньки. Мишу мы тоже любили, и он отвечал нам взаимностью — любил всех от Азария до меня и папу с мамой, всех десятерых, столько нас было.
Майя развивалась более чем хорошо. Все дети в возрасте 3–4 месяцев сучат ножками «по‑велосипедному», лежа на спине. Майя делала это с невероятной скоростью, что приводило всех в изумление. Когда ей было шесть месяцев, Миша ставил ее обеими ножками на свою ладонь, пальцами держал за ступни, Майя выпрямлялась, как струна, и Миша балансировал ею, как палкой. В девять месяцев она начала ходить.
Я старше Майи на девять с половиной лет. Я с ней постоянно играл, учил ходить, и это нравилось нам обоим.
В ее 3–4 года мы гуляли на Сретенском бульваре. От своей няни она постоянно убегала, и та очень опасалась этого. От меня она убежать не могла, а потому и не пыталась это делать.
В 5–7 лет Майя ходила в детский сад. Отводили ее обычно Рахиль или няня, а приводил домой часто я. Сначала это был детский сад Большого театра во дворе балетной школы на Пушечной улице, а потом детский сад Моссовета на Тверской, в здании Моссовета. Один раз семилетняя Майя раньше, чем за ней пришли, убежала из садика и пришла домой одна с Тверской к Сретенским воротам.
Поступив в балетную школу, Майя сразу же стала хорошо учиться. Весьма успешно переходила из класса в класс. В декабре 1940 года, когда ей было 15 лет, Асаф писал Рахили в Чимкент, где она с Азариком отбывала ссылку (это письмо сохранилось): «Вчера я смотрел Майечку. Она выступала в школьном концерте в трех номерах. Ты себе не можешь представить, какие она сделала успехи. Она блестяще протанцевала все три номера. Если она и в дальнейшем будет работать в таком плане, то из нее выйдет выдающаяся танцовщица. Поздравляю тебя с такой дочкой, ты ею можешь гордиться».
В апреле 1941 года Рахиль с Азариком вернулась в Москву, а через два месяца началась война.
Рахиль с детьми эвакуировалась в Свердловск. Туда же в последних числах октября 1941 года приехал я. Мы жили в одной комнате — Рахиль, Майя, Алик, Азарик и я.
Весной 1943 года 17‑летняя Майя вернулась в Москву, окончила балетную школу и поступила в Большой театр.
Ее выдающиеся способности проявились весьма быстро. За несколько лет она стала балериной. В ее репертуар вошли ведущие партии в «Раймонде», «Бахчисарайском фонтане», «Дон Кихоте» и других балетах.
Вот тут моя Мася, как я ее ласково называл, стала что‑то очень изменяться. И чем дальше, тем больше и больше. И, наконец, в полную силу эти изменения в ее характере, отношении к людям, родным, в том числе и к ближайшим — матери, братьям и тем, кто ее вырастил и вынянчил, окутал нежностью и любовью, — проявились после выхода замуж за Щедрина.

Суламифь Мессерер (Мита). 1940‑е
Майя довольно быстро и неуклонно становилась резкой, нетерпимой, злой, злопамятной. Достигла высшей степени эгоизма — стала эгоцентричной. Она — пуп земли, она — центр вселенной, ее никто и ничто не интересует, если это не касается ее (и Щедрина). Кругом — ее враги. Ее брат Азарий — враг, я — враг, двоюродный брат Азарий «беленький» — враг. Ну а главный враг — это Мита, вырастившая и выкормившая ее, спасшая ее от заключения в детдом, а ее мать и брата, возможно, от смерти в Акмолинском лагере жен изменников Родины, куда Рахиль с восьмимесячным сыном была заключена на восемь лет и из которого Мита их выцарапала через полтора года. И, конечно, такой же враг сын Миты Миша.
БЮДЖЕТ СЕМЬИ (со слов старших), ПЕРЕЕЗДЫ, ПОСЛЕДНЯЯ КВАРТИРА
Наш папа, до того как за несколько лет до революции открыл свой зубоврачебный кабинет, работал в зубоврачебном кабинете фабрики (не знаю какой). Получал зарплату 200 рублей в месяц. Сто рублей платил за квартиру. Одну комнату сдавал за 20 рублей. Таким образом, бюджет семьи составлял 120 рублей в месяц.
На эти деньги жили папа с мамой и восемь детей. Я еще не родился, но был брат Мося (Моисей), умерший в отрочестве. Держали прислугу и, временами, няню. Жили небогато, но жили.
Для экономии квартиру снимали не на постоянное время, а на 7–8 месяцев, после чего снимали дачу на 4–5 месяцев и съезжали с квартиры. Осенью съезжали с дачи и переезжали на вновь снятую квартиру в Москве.
Жили в Рыбном переулке, на Пятницкой, д. 5, кв. 5, в Сокольниках, в доме на углу Сретенского бульвара и Стрелецкого (ныне Костянского) переулка (он был трехэтажный, я помню, как в 1930‑х годах на нем надстроили еще три этажа и он стал шестиэтажным). Последним местом жительства нашей семьи был дом у Сретенских ворот (угол Б. Лубянки и Рождественского бульвара), четвертый (верхний) этаж. Там поселились в 1914 году и больше никуда не переезжали. Началась первая мировая война, потом революция.
В этой квартире родились в 1916 году я, в 1925‑м — Майя, в 1931‑м — Алик Плисецкий, в 1933‑м — Боря Мессерер (сын Асафа и Анели), в 1934‑м — Наум Азарин‑Мессерер (сын Маттания и Рахили Наумовны), в 1937‑м — Эрелла, в 1945‑м — мой Миша. В ней же родился (не помню, в каком году, в конце 1930‑х, перед войной) сын Саши Цфасмана, который жил в нашей квартире с 1933 года, заняв комнату Асафа после переезда Асафа в кооперативную квартиру в Газетном переулке.
В этой квартире папа открыл зубоврачебный кабинет. На моей памяти, в начале 1920‑х годов в комнате напротив входа в квартиру (в которой впоследствии жили мы с Ларой и Мишей) была приемная, а в смежной комнате — сам кабинет. Потом, в середине 1920‑х годов, папе пришлось ужаться — приемную он ликвидировал, и в этой комнате расположился кабинет, а бывший кабинет стал комнатой Асафа и Анели. В ней‑то впоследствии и поселился, как я писал выше, Цфасман.
В 1939 году папа перестал работать, зубоврачебное кресло и ножную бормашину кому‑то отдал. В комнате поселился я.
На улице, у входной двери в подъезд, до революции была установлена небольшая папина вывеска, которая потом была снята и долго лежала на полатях у нас в квартире. На вывеске были цены на зубоврачебные работы, а внизу написано: «Студентам и солдатам бесплатно».
Когда я перечислял тех, кто родился у Сретенских ворот, я имел в виду, что их родители в те времена жили в этом доме. Конечно, на свет они появлялись в различных родильных домах, а не дома. А вот лично я родился действительно в этой квартире, потому что моя мама все 10 раз рожала в своих спальнях.
МОСКВА 20‑Х ГОДОВ ХХ ВЕКА
Я помню себя очень рано. С четырех лет полностью, а некоторые эпизоды с трехлетнего возраста. Например, что мама уехала в Тамбов за хлебом, что папу взяли в Бутырку. Это могло быть не позже 1919 года. Очень хорошо помню, что я ходил в темно‑красном бархатном платье с белым кружевным воротничком. Помню, что просил надеть его на меня, но Рахиль сказала, что я уже большой, а большим мальчикам не нужно ходить в платье.
Вспоминаю еще эпизоды из голодных 1919–1920 годов. У нас была серебряная сахарница. Сахару, конечно, не было. В нее ссыпали крошки черного хлеба, остававшиеся при разрезании. Я влезал на стул и, стоя на нем на коленках, вынимал из сахарницы крошки хлеба и ел их. Когда, наверное, уже в 1920 году к нам в гости приехал кто‑то из Украины и дал мне ломтик белого батона, я, никогда не видевший белого хлеба, не понял, что это, повертел ломтик в руке и положил его на край стола.
В 1919–1920 годах Рахиль со мною, 3–4‑летним, ходила в американскую благотворительную организацию АРА, оказывавшую продовольственную помощь голодавшим москвичам. Она находилась на Трубной площади, на углу Неглинной и Петровского бульвара. В этом доме потом был Наркомпрос, а сейчас что‑то, связанное с именем Окуджавы.
В четыре года я самостоятельно ходил на Рождественский бульвар играть с ребятами. И это не было чем‑то особенным. Все 4–5‑летние поступали также. Машин не было, только извозчики. Правда, ходил трамвай «А» («Аннушка»). Ну и что? Никого это не пугало. Это было в 1920 году. А в 1921 году, 10 мая, я многократно бегал на бульвар, домой и обратно и радостно сообщал всем: «Мне пять лет, мне пять лет!»

Нодя (Александр Мессерер) на водной станции. Москва. 1922
Движения на улицах, можно сказать, не было никакого: ну, проедет извозчик, через одну‑две минуты — другой, потом еще. Иногда появлялась машина. Это было событие. Ребята кричали: «Автомобиль! Автомобиль!» А уж если автомобиль останавливался, да если еще шофер открывал капот и ковырялся под ним — это была радость. Все сбегались, окружали его, рассматривали и не расходились, пока автомобиль не уезжал.
Мостовые (словосочетание «проезжая часть» появилось позже) были булыжные — из булыжников неопределенной формы. Только на Кузнецком мосту и на Красной площади были уложены камни правильной прямоугольной формы — брусчатка. На Тверской, около Моссовета и вниз по склону, была торцовая деревянная мостовая: деревянные бруски укладывались вертикально, торцом наружу. Мы с мамой и папой (мне было 6–8 лет) довольно часто ездили на Тверскую (просто прокатиться) на извозчике. Летом двухколесная пролетка, зимой — санная. Платили 10 копеек. Это — если колеса с твердыми резиновыми шинами. А если колеса с надувными шинами да с рысаками в упряжке, то 20 копеек.
Тверская в то время была раза в два с половиной уже, чем теперь, и вдвое извилистей на отрезке от Охотного ряда до Страстной (Пушкинской) площади. Этот отрезок реконструировали примерно в 1935–1937 годах. На левой от центра стороне остались гостиница «Националь», дом, в котором теперь Театр им. Ермоловой (в то время там был Театр Мейерхольда), телеграф, построенный в 1927 году. Я помню, когда телеграф располагался на Мясницкой рядом с почтамтом, в здании на углу Мясницкой и Чистопрудного бульвара.
Далее, от телеграфа до Тверского бульвара, на левой стороне осталось только здание Моссовета, причем оно было передвинуто вглубь и надстроено двумя этажами. За счет этой передвижки извилистость Тверской уменьшилась на один зигзаг. Как известно, до революции 1917 года в здании Моссовета располагался генерал‑губернатор Москвы. Известно также — это описал Гиляровский, — что некая мошенническая компания открыла по соседству контору по продаже генерал‑губернаторского дома, но были разоблачены. Все остальные дома на левой стороне были снесены.
Напротив здания Моссовета после революции была сооружена из черного гранита Стела свободы, которую многие, переиначив, называли памятником Свободе. Теперь на этом месте стоит памятник Юрию Долгорукому.
На правой стороне Тверской, в ее начале, стояли церковь и гостиница «Париж». В ней, как почти во всех гостиницах Москвы, жили на постоянной основе, как в общежитии, разные ответственные работники, в том числе Миша Плисецкий до женитьбы на Рахили. Я с ней заходил к нему. Выше, после Камергерского переулка, в ряду с другими домами стоял красивейший дом Саввинского подворья. В начале 1930‑х годов он был передвинут вглубь и теперь стоит во дворе построенного на Тверской дома № 6 (по современной нумерации), в котором я живу в квартире Азария Плисецкого. А стоявшее во дворе здание 2‑й студии МХТ снесено. Дальше на правой стороне остались четыре дома: гостиница, жилой дом, Елисеевский магазин и Дом актера.
Манежная площадь. У меня есть план Москвы издания 1938 года. После 1938 года планы Москвы с указанием масштаба не издавались. Планы всех городов засекретили. Издавались только схемы городов. Это приблизительные, специально искаженные планы. Возможно, в предвоенные и военные годы это было оправдано. Но у нас так продолжалось почти до конца ХХ века, хотя уже давно со спутников делались фотографии с разрешением в 1 метр и в западных странах свободно продавались планы всех городов, в том числе и Москвы.
Так вот, на плане Москвы 1938 года Манежной площадью называлась маленькая площадка, ограниченная дальним торцом Манежа, Кутафьей башней, домом, в котором сейчас переход в Александровский сад, и Моховой улицей. То место, которое потом стали называть Манежной площадью и на котором теперь подземный торговый центр «Охотный ряд», было полностью застроено домами и складами. Моховая улица имела в то время правую и левую стороны, а не только правую, как теперь (на левой стороне, помню, был писчебумажный магазин «Прометей»), а вдоль изгороди Александровского сада шли трамваи. Они проходили вдоль левой стороны Манежа, заворачивали направо и через Воздвиженку — на Арбат. По узкому Арбату шли два маршрута: № 4 с Мясницкой и № 17 с Большой Лубянки. На нем я ездил от Сретенских ворот.
Складов, которые я упомянул, было четыре. На их верхних частях в 1930 году были установлены огромные буквы и цифры: на одном 5, на другом В, на третьем 4, а на четвертом Г, что символизировало всюду воспроизводимый тогда лозунг «Пятилетку — в четыре года».
ВСНХ. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Она открылась в 1923 году в Нескучном саду. Мне было семь лет. Я был на ней: Эля со мной и подруга Эли Тася Боброва со своей сестрой, моей ровесницей Любой. Через Театральную площадь шли трамваи. Один из маршрутов так и назывался: «Центр—Выставка». Помню, как ехали, как входили на выставку (там, где теперь вход в Парк культуры и отдыха). Ходили весь день. Очевидно, я так устал, что теперь не помню не только, как возвращались, но и что было на самой выставке.
Похороны Воровского. Мне было семь лет. Вышел из дома, как всегда один, а мимо дома медленно движется со Сретенки нескончаемая колонна людей. Впереди — грузовик с откинутым бортом. На нем — гроб и венки. За грузовиком — оркестр. Не знаю зачем, но пошел рядом с грузовиком. Шел и шел. Через Лубянскую площадь, Театральный проезд, Театральную площадь, Моховую, Волхонку. Зачем? Не знаю. Но шел. По Пречистенке. Большой Пироговской — к Новодевичьему монастырю.
Вход на кладбище тогда был через ворота монастыря. В них впустили не всех. Меня отсекли. Все это помню до мельчайших деталей. А вот как возвращался домой — абсолютно не помню и даже не могу себе представить. Я много раз в течение своей жизни вспоминал эти походы и никогда не мог понять, как я вернулся домой.
Школа плавания. В 12–13 лет (1928–1929 годы) я ходил в Школу плавания МГСПС (Московского городского совета профессиональных союзов). Там занимались Эля и Мита. Эля хорошо и много плавала, особенно на спине, но выдающихся результатов не показывала. А Мита, как известно, стала чемпионкой СССР и первой Спартакиады (в Олимпиадах мы тогда не участвовали).
Бассейнов в то время в Москве не было. Школа плавания была на Пречистенской набережной. Плавали прямо в Москве‑реке. Два плота на расстоянии 50 метров один от другого, соединенные деревянной дорожкой. На одном плоту — стартовые тумбы, на другом — вышка для прыжков в воду. Ездили в Школу плавания на трамвае «А» от Сретенских ворот до Пречистенской (Кропоткинской) набережной. Помню одну кондукторшу — маленькая старушечка. После Сивцева Вражка она громким писклявым голосом кричала: «Следующая остановка Куропаткинские ворота!»
* * *
Автомобилизация Москвы шла у меня на глазах. Если, как я уже писал, в начале 1920‑х годов автомобиль был редкостью, на которую люди сбегались посмотреть, то в середине 1920‑х появились такси марки «Рено» и автобусы «Лейланд». Был также большой кабриолет «Паккард» мест на 7–8, который теперь назвали бы маршруткой. На нем мы ездили от гостиницы «Метрополь» в Серебряный бор, когда там жили на даче в 1926 году.
Если по‑теперешнему, то машин тогда было мизерное количество. Но я помню, как однажды, остановившись где‑то в середине Большой Лубянки, я с восхищением наблюдал за тем, что проехавшая мимо меня машина еще не доехала до Сретенских ворот, а в начале Лубянки уже появилась другая машина. Эта, проехав мимо меня, только дошла до перекрестка, а в начале улицы уже третья машина. Я об этом рассказывал дома как о чем‑то небывалом. Автомобилей становилось все больше, и к началу 1930‑х годов гужевой транспорт был ликвидирован. Помню, был фильм «Последний извозчик», но я помню только название, а фильм забыл.
Пояснения имен
Азарий — брат (Азарий Михайлович Азарин‑Мессерер)
Майя — племянница (Майя Михайловна Плисецкая)
Мита — сестра (Суламифь Михайловна Мессерер)
Рахиль — сестра, мать Майи, Алика и Азарика Плисецких (Рахиль Михайловна Мессерер‑Плисецкая)
Миша Плисецкий — муж Рахили, отец Майи, Алика и Азарика (Михаил Эммануилович Плисецкий)
Нуля — брат (Эммануил Михайлович Мессерер)
Эля — сестра (Елизавета Михайловна Мессерер)
Асаф — брат (Асаф Михайлович Мессерер)
Маттаний — брат (Маттаний Михайлович Мессерер)
Лара — жена (Лариса Яковлевна Первова)
Боренька — сын
Александра Павловна — мать Лары
Яков Иванович — отец Лары
Лиза — сестра Лары (Елизавета Яковлевна Первова)
Митя — муж Лизы (Дмитрий Алексеевич Жучков)
Сашка — сын Лизы и Мити
Саша Цфасман — пианист, композитор, близкий знакомый нашей семьи (Александр Наумович Цфасман)

Правда хорошо, а мир еще лучше

Конец традиции