Открыли мне солончаки седые,
Чья кровь во мне и чей я внук и сын
И как дремал под рокот рек России
Во мне мой предок, смуглый бедуин, —
эти стихи принадлежат поэту, переводчику (с итальянского и английского языков), новеллисту, а в прошлом революционному деятелю (члену РСДРП, меньшевику) А. Я. Браиловскому и были написаны через много лет после того, как революционные бои в России отшумели, а сам он оказался за много тысяч километров от ее границ, в Америке.

Александр Яковлевич Браиловский (1884–1958) родился в Ростове‑на‑Дону в семье еврейского купца 1‑й гильдии, занимавшегося экспортной торговлей зерном. Когда юному Саше было неполных 13 лет, он познакомился в Пятигорске со студентом В. Я. Брюсовым, сделавшим в своем дневнике следующую запись (10 июля 1896‑го):
…Только что познакомился с юным поэтом Александром Браиловским — лет 13‑ти, знавшим меня по рецензиям. Он провел у меня весь вечер. Конечно, я победил большинство предубеждений, которые были у него против меня. Странный, юный и серьезный человек. Будем ждать дальнейших встреч .
В письме, адресованном поэту‑символисту А. А. Лангу‑Миропольскому и написанном через три дня после этой встречи, Брюсов сообщал:
Я поймал здесь маленького поэта (ему 13 лет) — Александра Браиловского; по общественному положению он — гимназист, по внешнему виду — старообразный мальчик с красивыми зубами и блестящими глазами, по убеждениям — демократ и враг символизма, как и подобает в 13 лет. Мы с ним проводили целые дни .
Именно этот «старообразный мальчик» явился адресатом известного брюсовского стихотворения «Юноша бледный со взором горящим…» , в котором, как старший по возрасту и уже приобретший некоторый литературный опыт, автор дает юному дарованию «три завета»:
Первый прими: не живи настоящим,
Только грядущее — область поэта.
Помни второй: никому не сочувствуй,
Сам же себя полюби беспредельно.
Третий храни: поклоняйся искусству,
Только ему, безраздумно, бесцельно.

Следует заметить, что этим памятным заветам адресат последовал не в полной мере, поскольку рос он как ярый ненавистник существующего государственного режима: еще в годы гимназического учения сблизился с социал‑демократами и со всей присущей его натуре страстностью отдался не столько искусству, сколько революционной деятельности.
К рев<олюционному> движению примкнул, будучи гимназистом, — говорится о Браиловском в библиографическом словаре «Деятели революционного движения в России», в котором указаны главные вехи его боевого пути. — В 1901 г. вместе с С. Гурвичем составлял и печатал на гектографе прокламации (к учащейся молодежи — по поводу студенческих волнений и др.). К 1902 г. стал работать в качестве пропагандиста в рабочих кружках Донск<…> ком<…>та РСДРП и в дальнейшем вошел в состав последнего. В середине 1902 г., выйдя из 8‑го класса, уехал для продолжения образования в Берлин, где примкнул к искровской группе. В начале след<ующего> года вернулся в Россию с транспортом «Искры», который сдал Донск<…> комитету. Принимал как член ком<итета> ближайшее участие в подготовке известной ростовской демонстрации 2 марта 1903 г., которая и началась речью Б<раиловского> к многочисленной толпе рабочих, собравшихся в т<ак> наз<ываемой> Камышевахинской балке на кулачные бои .
За свой политический выбор мятежный юноша «со взором горящим» заплатил суровую цену: был арестован, судим, приговорен к смертной казни, замененной пятнадцатилетними каторжными работами в Сибири. Физических и душевных мук хлебнул там полной мерой, попав в одно из самых адовых мест сибирского заточения — на строительство Амурской колесной дороги (в народе попросту «колесухи»), которую описал в воспоминаниях, опубликованных под псевдонимом Р. Бравский . На известном этапе творческой жизни Браиловского этот псевдоним полностью вытеснит его подлинную фамилию.
В 1905 году Браиловский бежал из Акатуйской тюрьмы и, добравшись до Читы, вошел в местный комитет РСДРП, где работал под подпольной кличкой «Леонид». В Чите ему удалось скрыться от преследования и через какое‑то время попасть в российскую столицу, откуда и вовсе исчезнуть за границу и превратиться в политического эмигранта.
Ряды политических эмигрантов, сосредоточенных во французской столице, Браиловский пополнил не позднее 26 января 1913 года: именно в этот день, по сообщению русской эмигрантской газеты «Парижский вестник», он должен был на заседании литературного кружка (54, avenue du Maine) читать доклад «По вопросу о русской современной народной песне» . Об этом докладе в объявлении говорилось как о несостоявшемся «в прошлый раз», что дает основание отнести приезд Браиловского в Париж к более раннему времени, — по всей вероятности, ко второй половине 1912 года.
На страницах «Парижского вестника» Р. Бравский / А. Браиловский представлен текстами разных жанров — от очерково‑литературного (скажем, «Круг жизни», в котором нарисован портрет Пьера Лоти, французского моряка и романиста ) до информационного обзора художественной выставки «Эстетического братства католических художников» .
Помимо статей, Р. Бравский представлен в «Парижском вестнике» как поэт. Так, в частности, там впервые появилось его стихотворение «Я современник, я сын века…», которое было включено в первый поэтический сборник Браиловского «Полынь» (Париж, 1913), а много лет спустя, с рядом изменений и без 4‑й строфы, вошло в упомянутую выше книгу «Дорогою свободной» (с. 9):
Я современник, я сын века,
я образован, я умен,
мой мозг — музей, библиотека,
смешенье вер, идей, имен.
Седые, модные ученья
дерутся в разуме моем,
над всем склонялся я умом,
и все смела метла сомненья.
Но едкому назло уму
страстей наивных я не трушу,
и что‑то — вопреки всему—
внезапно окрыляет душу.
И пусть бескровный скептицизм
сухими шевелит губами,
знамена яркие отчизн
меня волнуют временами…
Когда ораторы кричат
о новом мире мне с трибуны,
одни насмешливые струны
в душе изведавшей звучат.
Но час придет — и новый Муций,
на пламя руку возложу
иль шею протяну ножу
в годину шумных революций
.
Замечу кстати, что некоторые стихи, составившие сборник «Полынь», содержат довольно ощутимый отзвук парижской эмигрантской жизни с пронизывающими ее неизменными образами тоски, скуки и страха одиночества:
Вокзалы, вокзалы, вокзалы,
где гудит каменный пол.
Электричества полные залы,
жужжанье железных пчел.
Метро утомленные очи,
налитые красным вином,
внезапно сомкнутся средь ночи,
и жутко в Париже пустом…
Крыш темные линии,
над ними мертвый пожар,
зеленые, бледные, синие
огни погрузились в тротуар.
Горькое кофе, ликеры,
за липкой жестью толстяк,
сутенеры, сыщики, воры,
пустые стеклянные взоры
истасканных, скучных гуляк.
Далекий старческий кашель,
гостиницы грязной зев,
в запертых парках капель
и печаль плененных дерев…
Парижская тема, связанная с поэтическим бытописанием русской дореволюционной политической эмиграции, заселившей целые кварталы французской столицы и ставшей во многом «генеральной репетицией» эмиграции послереволюционной, не отпускала Браиловского и по прошествии многих лет. В своем стихотворении «Муфтарка», включенном в сборник «Дорогою свободной» (цикл «Иды марта», составленный из поэтических свидетельств его революционного прошлого), он рисует одну из таких парижских улиц, на которой расположен известный рынок и обитателями которой являлись такие же, как он сам, русские политэмигранты :
Мигает газ над низким потолком,
Струится пьяный дух от прелых бочек,
И высоко истрепанный листочек
Оратор потрясает над столом.
И у него в отравленных глазах
Застыла неподвижная химера,
И кажется — вот выстрел револьвера,
Как аргумент, сорвется впопыхах.
Всë жарче спор. От группы меньшинства
Поднялся озабоченно оратор,
И звонкий женский возглас: «Ликвидатор!»
Его встречает, как удар хлыста
.
Другое стихотворение из того же цикла, «Призрак», — накативший из прошлого образ испытанного когда‑то потрясения от «дела Азефа», который, с одной стороны, возглавлял Боевую организацию эсеров — карающий меч русских революционеров‑террористов, беспощадно разивший представителей властей предержащих, а с другой — оказался провокатором, который верой и правдой служил царской охранке (в конце 1908 года Азеф улизнул из Парижа, от праведного суда товарищей, поселился в Берлине, где и умер в 1918 году):
На тысяче костров, как тля истлев,
Прикрывши лоб гориллы низко шляпой,
Выходит из гостиницы Азеф,
Ушастый, сумрачный и косолапый.
И под глубоким гримом паспортов,
Растливший все любови и приязни,
По улицам немецких городов
Бежит, косясь, от запоздалой казни.
Уж новый шум на древних площадях,
С террором в дружбе новая охранка,
А он бежит от банка и до банка,
А ночь, как мышь, таится в номерах
.
Вернемся, однако, к Браиловскому‑эссеисту. Одна из его статей, «Симультанизм», была напечатана в упомянутом выше журнале «Гелиос» (1913. № 1. С. 35–37). В ней шла речь о новом устремлении искусства — к симультанизму, по‑своему «преодолевающему» и одухотворяющему футуризм.
Симультанизм, — писал в данной статье Браиловский, комментируя само это понятие, — опирается на достижения футуристов. Его протагоны, движимые чувством соперничества, это отрицают, но это так. Но симультанизм шире и мудрее. Он принимает все, чему, декретируя новую условность, вынесли смертный приговор футуристы. Душа жизни — движение, да, — но не только движение стальных колес. Жизнь есть также движение внутреннее. Современность, да, — но когда в этой современности звучат старые или нежные голоса, художник не должен в угоду догме затыкать уши. Динамо‑машина, да, но одновременно, совместно (simultanément) с ее грохотом под небом льются «протяжные рыдания осенней скрипки». Автомобиль, который, «широкой шиной вздымая пыль», пожирает пространство, — поэзия, но «la mélancolie des soleils couchants» тоже поэзия. И весь мир, многоголосый, глубокий, изменчивый и тысячеликий, — поэзия .
Обращаясь к виду искусства, «на много лет по природе своей опередившему прочие в направлении симультанизма», автор апеллирует к музыке.
Симультанизм в музыке называется полифония, — пишет он. — Поэзии близко движение. Живописи — глубина. Музыка богаче их обоих. Она владеет и движением и глубиной .
В качестве одной из иллюстраций своих теоретических размышлений Браиловский останавливается на поэме‑коллаже Б. Сандрара «Проза о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне Французской» (1913), в которой, по его словам, «каждое слово читается на фоне особого цвета: совместная инспирация идеи и краски» . Впрочем, далее он отмечает, что, хотя «предлог для полнозвучия, полифонности» у Б. Сандрара был «великолепный», поэма, «за вычетом немногих отдельных зорких замет», представляет «фонтан многозначительного многословия» . Чувствуется, однако, что слабым местом художественного течения, о котором Браиловский взялся писать, являлись его довольно‑таки фантомные текстовые результаты, и сам автор этого не мог не осознавать. Оттого финал статьи оказался гораздо осторожнее, нежели того следовало ожидать:
Что сказать о его <течения> продукте, о первой симультанистской книге? Как и у футуристов, мы видим здесь крупные замыслы и пока еще незрелые и немощные осуществления. <…> Стремления симультанизма своевременны и законны. Будем осторожно отличать их от практики симультанистов .
В 1913 году в Париже увидел свет первый поэтический сборник самого Браиловского «Полынь», подписанный, как и все, что в это время выходило из‑под его пера, псевдонимом Р. Бравский. Рецензия на него, появившаяся в «Парижском вестнике», начиналась весьма примечательно:
Стихи — это, в сущности, «то, чего не читают».
Их никто не читает — ни плохих, ни хороших. Никогда, кажется, современный русский читатель не доходил до такого прискорбного равнодушия к родной поэзии, как в настоящее время.
Однако наперекор этому читательскому равнодушию, писал рецензент далее, «поэты все же продолжают писать».
Передо мною тощая беленькая брошюрка стихов, — говорилось в рецензии. — Автор Р. Бравский. Его мне никогда не приходилось читать, да и вряд ли у него имеется широкий круг читателей. Но пробегаю несколько стихотворений — и проникаюсь уважением, на которое имеет право полное, неподдельное дарование, всякий искренний писатель.
Тут много прекрасных страниц. <…>
В темах его стихов вы найдете и гражданственную скорбь, и возмущение, и полупрезрительную насмешливость над нелепым укладом современной русской жизни.
Положительно в целом оценивая мастерство поэта, автор рецензии в то же время отмечал, что там, где он начинает гнаться за модернизмом, где он нарочито подлаживается под «стилистику», там его поэзия меркнет, тяжелеет, теряет обаяние задушевности, которая больше всего подкупает в его стихах, а надуманные сочетания слов и фраз становятся местами прямо несуразными.
Отклик завершался на сдержанно‑оптимистической ноте:
Рифмы не совсем богаты у Р. Бравского — новое поколение ведь вообще беспечно на этот счет. И многие стихотворения его не понравятся любителям безупречного академического стиля. Но и их местами глубоко тронет нежная любовь автора к родной природе и родному быту .
В Париже Браиловский сблизился с меньшевистским крылом русской социал‑демократии, а в годы Первой мировой войны, подобно многим соотечественникам из числа политических эмигрантов, вступил в Иностранный легион.
В 1917 году Браиловский переселился в США, где в октябре его настигла весть о большевистском перевороте. Двадцатые годы отмечены в биографии бывшего меньшевика сближением с большевистским режимом, утвердившимся на его родине, и опьянением несбыточными социальными иллюзиями, которые этот режим якобы должен был утвердить на всей земле. Честная вера в коммунистическую утопию выразилась в службе Браиловского в просоветских учреждениях и сотрудничестве с просоветскими органами печати в Америке, в частности в службе в газете «Русский голос» и редактировании газеты «Новый мир» — официального органа русского отдела Коммунистической партии США и секции Коммунистического интернационала. Идеально соответствуя стереотипу «typical anarchist», он не случайно возбуждал подозрения у американской полиции .
По всей видимости, в конце 1920‑х годов Браиловский с семьей переселился в Лос‑Анджелес: посетивший США в июне 1931 года советский писатель Б. Пильняк (побывавший, в частности, в Калифорнии) упоминает его в своем очерковом романе «О’кей!» (1933).
Одаренный от природы тонким художественным чувством, Браиловский пытался проявить себя на журналистском поприще в разных творческих ипостасях, например в кино: в первой половине 1930‑х годов он являлся одним из редакторов известного американского журнала «Experimental Cinema», который смыкался с левыми тенденциями в киноискусстве и потому демонстрировал откровенную лояльность и симпатию к советскому кинематографу, печатая на своих страницах таких его крупнейших деятелей, как Вс. Пудовкин и С. Эйзенштейн, А. Довженко и Д. Вертов. В № 4 за 1933 год в переводе Браиловского в журнале была напечатана статья советского кинооператора и кинорежиссера М. А. Кауфмана «Кино‑анализ» («Cine‑Analysis»), взятая из журнала «Пролетарское кино» (p. 21–23). Ее сопровождала собственная статья Браиловского «A Few Remarks on the Elements of Cine‑Languages» («Несколько замечаний по поводу элементов киноязыка»), проникнутая по‑марксистски классовым подходом к явлениям жизни и искусства и на этой основе истолковывающая особенности кауфмановского «киноанализа» .
В середине 1930‑х годов Браиловский вернулся в Нью‑Йорк и занял должность редактора газеты «Русский голос». В данном качестве он предстал перед посетившими Америку осенью‑зимой 1935–1936 годов И. Ильфом и Е. Петровым, чей роман «Двенадцать стульев» печатался в этой газете. Безуспешные попытки писателей извлечь гонорар за эту публикацию, о которой они до своего американского вояжа не имели ни малейшего представления, отразились в дневнике И. Ильфа .
Неизвестно в точности, в какой момент и почему в мировоззрении этого человека наступил внезапный перелом, когда, как сказано в одном из его стихотворений («Ты повторился, древний сказ…»), он «мир увидел в первый раз / Незатемненными глазами» . Известно лишь, что разочарование в том, чему еще недавно столь истово поклонялся он, вчерашний революционер, привело при пристальном взгляде «незатемненными глазами» на тот кошмар, который творился в его родном отечестве, почти к полному избавлению от революционной эйфории и веры в марксистские идеологические фетиши. И в результате этого — к самоустранению от активной общественной деятельности, по крайней мере, в той исключительно политизированной форме, каковой она отличалась, по существу, всю его предшествующую жизнь.
Со временем процесс сожжения того, чему — под воздействием ложно истолкованных исторических реалий — он стал поклоняться, и поклонения тому, что раньше сжигал, в Браиловском лишь нарастал. Своего литературного апогея он достиг в книге политических басен и пародий «Временщики в Кремле» (Нью‑Йорк, 1955), в которой подверг едко‑сатирическому высмеиванию верховных советских сановников, удерживающих власть с помощью беззастенчивой лжи и пышной демагогии.
В 1942 году Браиловский принял участие в сборнике зарубежной литературы «Ковчег» (Нью‑Йорк), где он представлен рассказом «Неугасимая лампада» и эссе «Эпитафии» — о книге американского автора Эдгара Ли Мастерса (Edgar Lee Masters) «Spoon River Anthology» (1915), собрании миниатюрных поэм, написанных «белым стихом», — своеобразных эпитафий, посвященных жителям выдуманного автором городка Spoon River .
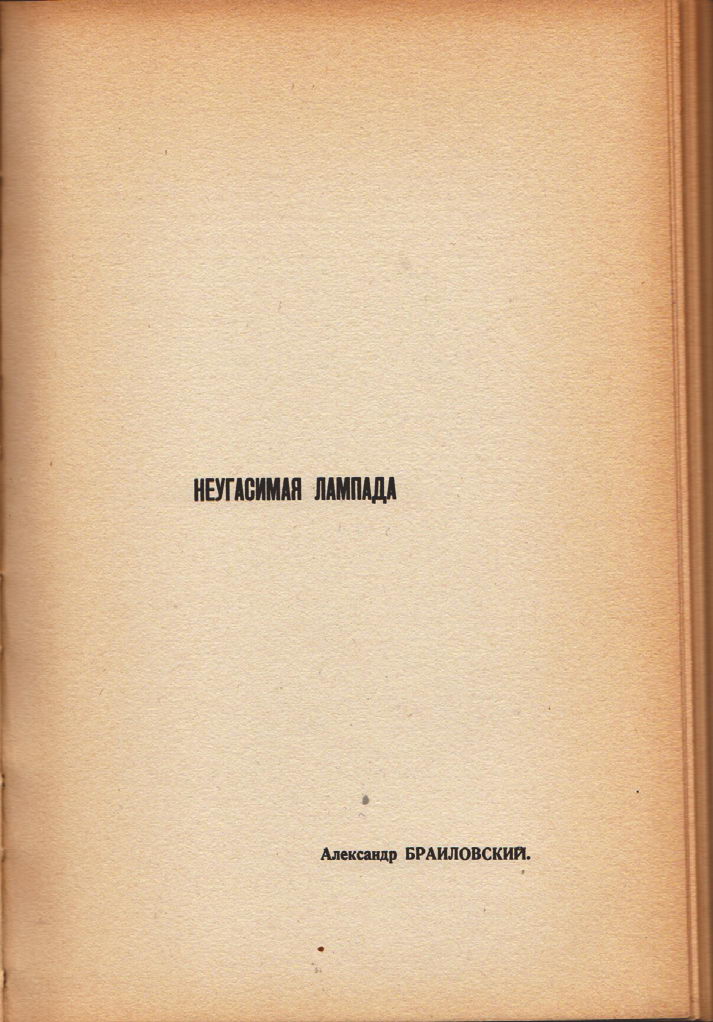
В рецензии на сборник стихов «Дорогою свободной» эмигрант второй волны, писатель и литературный критик Б. А. Филиппов (Филистинский), знакомый с Браиловским лично , вспоминал о том, как «лет десять тому назад, в одном из лагерей перемещенных лиц» ему «попался в руки альманах “Ковчег”, изданный в Нью‑Йорке в 1942 году. И самым интересным в альманахе оказался рассказ “Неугасимая лампада”», который был подписан неизвестным ему тогда именем — Александр Браиловский. И далее следовал пересказ этого действительно написанного талантливой рукой текста:
Рассказ пленял не фабулой: она проста и незамысловата. Живут в сонном и пыльном южном уездном городе два компаньона‑мельника: русский и еврей. Оба — люди старого закваса, верующие твердо и традиционно, крепкие хозяева и неустанные работники. И, казалось, даже не дружили особенно. Но вот умирает один из компаньонов — кряжистый Лысов, и Голдин чувствует какую‑то пустоту, какую‑то потребность оживить невозвратное, то, что минуло и никогда уже не будет. Как сделать это? Создать в память покойного что‑то, особенно покойному дорогое. И — после многих мытарств — еврей Голдин сооружает в местном соборе киот с образом святого Иоанна Странноприимного, чье имя носил Лысов. Проходят годы — одинаковые, как стершиеся пятаки екатерининского чекана. Наступают погромные годы пятого года, и на Голдина натравливает озверелую толпу босоты местный черносотенец, глубоко уязвленный тем, что в соборе горит неугасимая лампада, возженная на еврейские деньги. Большой беды Голдину, впрочем, не причинили, но Голдин, напуганный событиями, ликвидировал все свои дела и перебрался в Америку. А лампада все горела и горела в соборе. И лишь в восемнадцатом году ограбили собор полукоммунистические‑полумахновские отребья большевистской банды батьки Перебейноса, и о пламя неугасимой лампады раскуривал трубку приземистый рябой конник, расположившийся у голдинского киота на ночлег. Затем конник притушил корявыми пальцами огонек лампады и, усевшись на пол, усердно принялся смазывать свои тяжелые сапоги лампадным маслом. Восторгаясь манерой рассказчика, Филиппов писал: «Но как это рассказано! Без модной словесной оркестровки, навязшей в зубах, как слишком вязкий и пряный коржик. Нет, строгая линия письма, даже без психологического нажима. Деловая речь, но таким ароматом полынной и пыльной, чуть горчащей степи русского уездья пахнуло на меня, что захотелось еще и еще перечитать “Лампаду”, как пьянящую тоску неизбывной и непререкаемой нашей смертности» .
На следующий год свет увидела книга поэтических переводов Браиловского «Из классики» (Нью‑Йорк, 1943), предисловие к которой принадлежит видному русскому религиозному философу Г. Федотову.
В 1940‑х годах Браиловский становится членом Русского культурного объединения в Америке (Литературное содружество) , регулярно печатается в «Новом русском слове», в иных случаях подписываясь Александр Б. (его материалы носят разнообразный в жанровом отношении характер — от упоминавшихся выше воспоминаний о знакомстве с В. Брюсовым или некролога «Памяти С. В. Потресова‑Яблоновского» до статей, фельетонов, литературных очерков и рецензий) и «Новом журнале». Проявил себя Браиловский и в сатирическом жанре: в «Новом русском слове» публиковались его короткие басни , а в 1955 году, как было сказано выше, увидела свет книга политических басен и пародий «Временщики в Кремле».

В том же 1955 году из печати вышел сборников стихов Браиловского «Дорогою свободной», который уже несколько раз упоминался выше. Одна из рецензий, принадлежащая литератору В. Ф. Афонькину и подписанная его псевдонимом В. Эфер, начиналась с того, что рецензент упрекал автора за якобы неудачное название книги:
По названию читатель судит о ней как о «гражданских» стихах. Но Браиловский — бывший революционер, человек, проживший большую и напряженную жизнь, постигший и высокий накал идей, и нищету идеалов, — пишет здесь о<б> иной свободе — о свободе в ключе, так сказать, философском. Поэт пришел к свободе мудрой отрешенности и мужественного спокойствия <…>
В конце жизни Браиловский вновь перебрался в Лос‑Анджелес, где умер и похоронен.
Его развернутый некролог — по существу, мемуарный очерк — написал М. Е. Вейнбаум, редактор «Нового русского слова», в котором долго и плодотворно сотрудничал Браиловский.
В русском Нью‑Йорке, да и во многих других местах русского рассеяния в Америке, — писал Вейнбаум, — А. Я. Браиловского хорошо знали и больше даже помнили о его прошлой деятельности. Знали его как журналиста, поэта, как оратора, громовой голос которого так не гармонировал с его малым ростом, как человека очень умного, страстного и пристрастного, как спорщика, выходки которого нередко шокировали людей и вызывали их возмущение.
Но многие ли, — вопрошал далее автор некролога, — знали мятущуюся душу этого человека? Вряд ли. Он тщательно прятал ее от людей, не подпускал их к ней, не делился с ними ни своими радостями и горестями, ни надеждами и сомнениями.
Раскрывал себя А. Я. Браиловский, и то очень скупо, больше намеками, в своих стихах.
Вейнбаум, знакомый с Браиловским на протяжении многих лет и наблюдавший его в разные периоды жизни, не мог скрыть сложных противоречий этого человека, который бывал бесстрашен и в гневе даже страшен. В нем было много дерзаний, и он таил в себе большие силы. Но что‑то мешало ему их использовать. Он загорался, но быстро потухал. Разменял свои силы на мелочи. Мог дать много, но дал очень мало .
Нет оснований не согласиться с этой не лишенной известной суровости, но в целом объективной характеристикой человека, творческие дарования и душевная энергия которого, наверное, и в самом деле намного превзошли объективные результаты его деятельности. И в то же время жизнь и судьба Браиловского, а также то, что осталось после него в виде литературного наследия, достойны самого пристального внимания. 

Трехэтажный мир Романа Тименчика

Самый еврейский из русских писателей

