О раввинах, о гебраистах: из воспоминаний семьи Глускиных — Амусиных
Продолжаем совместную с проектом «Земелах: советские еврейские эго‑документы» серию публикаций, представляющую некоторые из новых поступлений в корпус. Журнальная публикация рассказывает об источнике и его авторе и содержит комментированные фрагменты текста; полный текст читайте на Zemelah.online.
Величайшая добродетель историка — не просто изучать источник, но способствовать его появлению на свет. Самый очевидный способ — интервьюирование, сотворчество в создании биографических и устноисторических нарративов. Но можно способствовать и появлению мемуарных текстов — стоит только попросить. Говоря о так называемых источниках личного происхождения по истории советских евреев, нельзя не упомянуть Центр по исследованию и документации восточноевропейского еврейства при Еврейском университете в Иерусалиме, который и проводил интервьюирование новых репатриантов, и объявлял конкурсы автобиографических очерков: «Мой путь в Израиль» в 1973–1977 годах, «Бейт аба» («Дом отца») в 1980–1984 годах, на которые откликнулись десятки авторов . Тем же занимались и отдельные ученые, преследуя свои исследовательские задачи. Например, историк Михаэль Бейзер, готовя книгу о евреях Ленинграда в межвоенный период, просил разных людей поделиться воспоминаниями, в частности дочерей ленинградских раввинов Давида‑Тевеля Каценеленбогена и Менахема‑Менделя Глускина . Далее мы публикуем письма Софьи Менделевны Глускиной об отце, написанные Михаэлю Бейзеру в сентябре–октябре 1989 года и отложившиеся в архиве Центра по исследованию и документации восточноевропейского еврейства .

Софья Менделевна, третья из четырех дочерей раввина Глускина и Фрадл Рабинович — дочери главного раввина Минска. Она окончила факультет русского языка и литературы Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена. Ее научным руководителем был Б. А. Ларин, лексикограф, диалектолог, один из первых в Советском Союзе социолингвистов; вместе с Лариным Софья Менделевна начала ездить в диалектологические экспедиции, собирая материал для Диалектологического атласа русского языка. Учебу в аспирантуре прервала война. Софья Менделевна осталась в блокадном Ленинграде: рыла окопы под Пулковом, разгружала вагоны и т. п. Ее вывезли по Дороге жизни в состоянии тяжелой дистрофии, она добралась до Татарстана, где тогда находились сестры. Оклемавшись, Софья Менделевна в 1943 году добровольцем ушла на фронт и прослужила радиотелеграфистом до конца войны. В 1946 году она вернулась в аспирантуру, а через два года, окончив ее в период борьбы с космополитизмом, не смогла остаться в Ленинграде и получила распределение в Псковский педагогический институт на кафедру русского языка, где и проработала до 1992 года. Она преподавала историю русского языка, старославянский язык, введение в языкознание, а с 1957‑го по 1987 год руководила собиранием диалектных материалов для «Псковского областного словаря с историческими данными»: организовывала экспедиции, постоянно вела словарный семинар, писала и редактировала статьи для словаря. В ходе этой работы она сделала несколько важных научных открытий в области морфонологических особенностей в псковских говорах , самое известное — доказательство отсутствия второй палатализации заднеязычных согласных в псковских говорах. Впервые это отсутствие предположил в начале ХХ века лингвист Б. М. Ляпунов, а после Глускиной его подтвердил на материале берестяных грамот А. А. Зализняк, он же и назвал это явление «эффектом Глускиной».

В 1992 году Софья Менделевна уехала в Израиль, где на тот момент уже жила ее младшая сестра Гита Менделевна и ее семья. Старший сын Гиты Эммануэль Глускин был очень близок с тетей, которая принимала участие в его воспитании, а потом помогала воспитывать и его детей. В своих воспоминаниях о Софье Менделевне, написанных по просьбе ее подруги и коллеги, Глускин так описывает ее личность:
…та фундаментальность, которая была характерна для Сони как для человека, происходит не только от ее таланта, но и от того воспитания, которое она получила. <…> Как по отцовской линии, так и по материнской Соня происходит из семьи крупных раввинов. <…> для формирования одной из основных черт Сониного характера, которую на обиходном языке можно определить как упрямство, а на более возвышенном как настойчивость и целеустремленность, большое влияние оказало ее происхождение. <…> ее психике все‑таки была свойственна некоторая еврейская специфичность. Я бы эту специфичность определил как потребность в независимом мышлении и — более субъективно — как повышенную чувствительность к происходящему вокруг. <…>
Соня была целеустремленным, восприимчивым человеком с оригинальным и глубоким мышлением. <…> Она была человеком редкого мужества и несмотря на врожденную чувствительность воспринимала трудности жизни, я бы сказал, со стойкостью крестьянки. В ее повседневном поведении ничто не указывало на то, что перед нами выдающийся ученый. Скромность была привита ей с малолетства, и она сохранила эту черту на всех этапах своей жизни .
Письма Софьи Глускиной Михаэлю Бейзеру
Сентябрь 89
Дорогой Миша!
Я была летом в Эстонии, а письма пришли в Л‑[енингра]д и Псков, поэтому отвечаю так поздно. Начну в этом письме, продолжу в следующем. Мой рассказ будет больше касаться доленинградского периода, потому что ленинградский — короткий и безрадостный, но и о нем напишу.
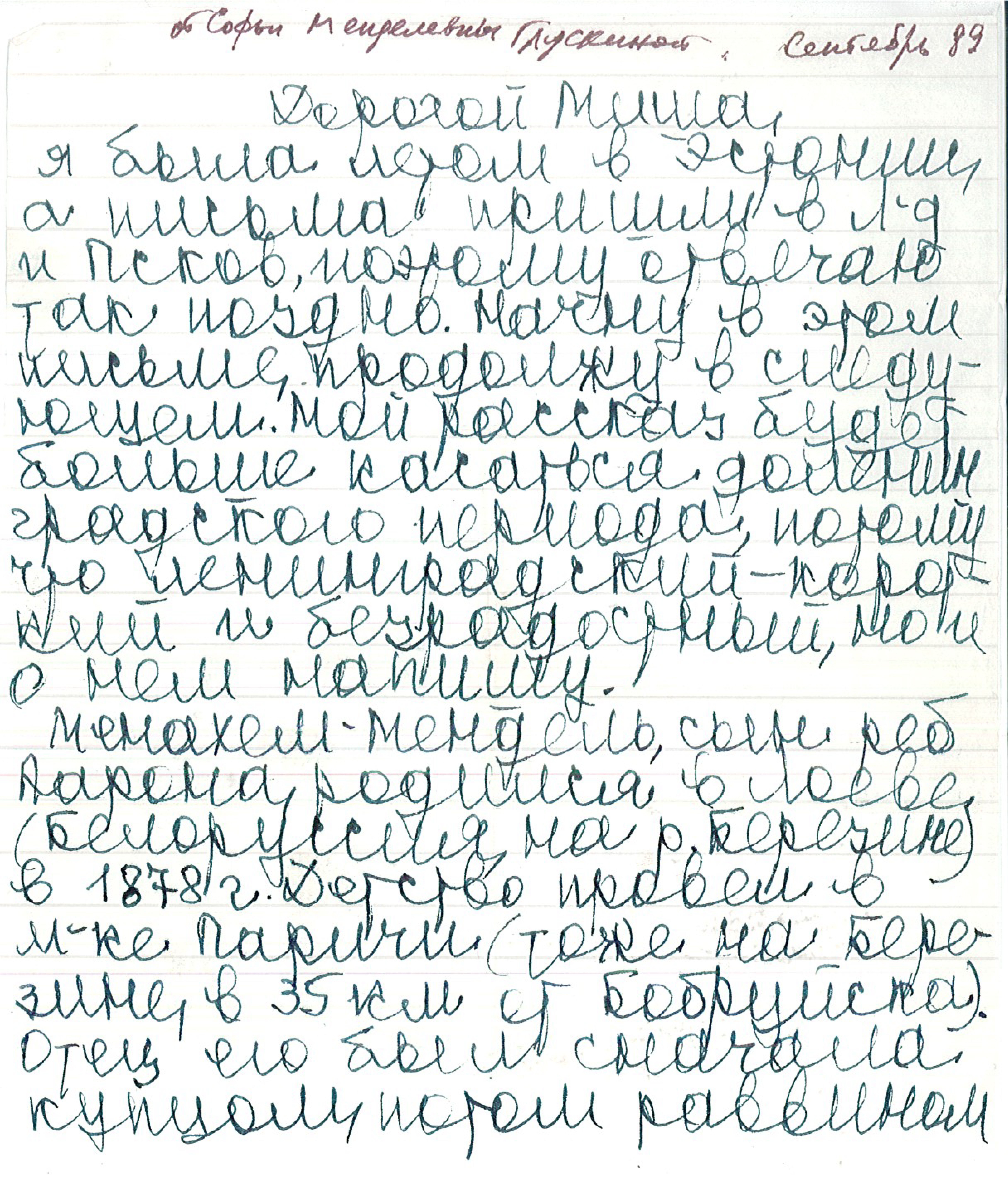
Менахем‑Мендель, сын реб Аарона, родился в Лоеве (Белоруссия, на р. Березине) в 1878 году. Детство провел в м[естеч]ке Паричи (тоже на Березине, в 35 км от Бобруйска). Отец его был сначала купцом, потом раввином в Паричах. У него было 7 дочерей и единственный сын, Менахем‑Мендель, любимец семьи, очень способный, был и большим озорником. Он как‑то рассказывал, что в Паричах говорили: если из Мендла вышел человек, то и они со своими детьми не должны терять надежду. Лет в 20 он получил диплом раввина. Много читал, сам изучил общеобразовательные предметы, немецкий, французский и латынь . Решил держать экстерном экзамены на аттестат зрелости в Бобруйске. Все местечко следило за его успехами. За сочинение по литературе он получил 5, устный по литературе и языку — тоже 5. Но экзамен по математике пришелся на субботу. За него просили о другом дне, пусть с более сложным вариантом задания, но директор не согласился. Так отец и вернулся в Паричи без аттестата. <…>
Приобретенные знания папа сохранил на всю жизнь. Он всегда помогал нам решать сложные задачи по математике и физике, иногда предлагал старшим дочерям решить какую‑нибудь интересную задачу. <…> к дедушке приходили молодые революционеры, среди них Григорий Шкловский, соратник Ленина, чтобы Мендл разъяснил им трудные места в «Капитале» . Я помню, отец как‑то сказал, что у Маркса все очень логично, но поставлено с ног на голову.
Папа хорошо играл на скрипке, считал ее лучшим инструментом, но его игры мы не слышали, он не позволял себе этим заниматься. (Знаю это из рассказа его друга, тоже раввина). <…>
21.IX.89
Дорогой Миша!
Продолжаю об отце. Он в молодости много читал и нам рекомендовал, что читать. Но на моей памяти он не позволял себе отрывать время от Торы и пр. для светских книг. Только иногда перед сном он перечитывал Гоголя, Чехова. Помню, как он смеялся, читая «Ревизор» Гоголя.
В 1909 году папа женился на дочери минского раввина, реб Лейзера Рабиновича , — Фрадл.
В 1924 году дедушка в Минске умер, и папу пригласили на его место. А до этого, после смерти своего отца, папа был раввином в Паричах. Папа был хасидом, но не фанатичным, он не принимал раскола и насмешек одних над другими. Думаю, поэтому его могли пригласить возглавить минскую общину, а потом — ленинградскую. И папа всегда поэтому молился в главной синагоге — не хасидской. Реб Лейзер Рабинович был «миснагедом», но к нам домой в субботу перед минха часто приходили хсидим , пели, в праздники танцевали.
В 1932 году умер отец Берты Дав.[идовны], раввин Каценеленбоген . В 1933 году в Минск приехал представитель общины пригласить отца на место ленинградского раввина. Думаю, что отцу нелегко далось решение: Минск был очень еврейским городом, и с ним была связана вся жизнь. Но нас выселяли отовсюду, под конец мы жили на хорах в так называемой Холодной синагоге . Мать умерла в 1929 году, учиться нас не принимали, а представитель общины уверил, что в Ленинграде мы сможем учиться. И квартиру, конечно, обещали. В Минске преследовали наиболее активных среди верующих. Был процесс с обвинением, например, в растлении малолетних. Все ужасались, и отцу нелегко было втолковывать людям, что тот ни в чем не виноват, что это расправа с неугодным (много подобных обвинений было ведь у нас не так давно).
Отец сидел не раз, хотя не подолгу, в Минске. А в 1937 году в Ленинграде арестовали всю двадцатку общины во главе с Эстриным и многих посетителей синагоги. Среди них — двух сыновей покойного р. Каценеленбогена — Герца и Саула, и оба они погибли в лагере . И мы думали: какое счастье, что папа умер раньше — 27 ноября (13 кислева) 1936 г.
<…>

5.X.89
Дорогой Миша!
Продолжаю. <…>
Немного о характере. Отец был мягким и сдержанным человеком. Как‑то врач, смотревший его, сказал, что он очень нервный. Папа удивился: его все считают сдержанным. Врач: «Тем хуже для вас». Отец не позволял себе раздражаться в общении с людьми. Тяжело приходилось иногда с мясниками, если корова оказывалась нездоровой, трефной. Однажды в Минске перед Пасхой в голодное время начала 30‑х годов к отцу пришли мясники, здоровенные мужланы, просить маот хитим — мацу из фонда для бедняков . Отец вынес им несколько штук мацы. Их это не удовлетворило, они стали кричать, наступать на отца с кулаками. Он был невысокий, казался совсем слабым, но все время повторял: «Прошу вас…» Гита, младшая дочь, выбежала во двор искать помощи, вернулась с соседом, но мясников уже не было. Отец образумил их, и они ушли.
Он не заставлял дочерей, как некоторые другие, носить только длинные рукава и чулки в жару, хотя был очень религиозен. В разных случаях были не запреты, а просьбы, и это гораздо лучше действовало. Мучительным был вопрос о нашем образовании. Меня исключили из 5‑го класса за то, что я не ходила в школу в субботу. (4 класса были обязательными, поэтому в 4‑м классе с этим мирилась администрация.) <…> Лию (старше меня) исключили из 6‑го класса. Младшая, Гита, училась дома и сдала экстерном за 7 классов уже в Ленинграде после смерти отца. Уже после смерти мамы отец советовался с ее тетей, дочерью минского «годла» , и меня отправили учиться в 7‑й класс в Москву к маминому брату. Лия тоже закончила 7‑летку в Москве. Старшая, Эстер, училась в Минске в вечерней школе, там с посещением было проще. И тоже училась только в старших классах.
Помню, как отец вернулся после ареста, длившегося 6–7 дней. Он сказал, что в одиночке он каждый день повторял наизусть одну из книг Мишны и как раз успел повторить все 6 книг.

В nbsp;1933 году в Минск приехал представитель ленинградской общины пригласить отца на должность раввина. <…> Была обещана квартира, но приехали мы летом на дачу в Павловск, а квартиры так и не было (говорили, что кто‑то поступил нечестно, деньги на квартиру исчезли). Негде было жить. Сначала отца приютил старший сын рава Каценеленбогена, Герцель Давидович, <…> отцу выделили комнату, очень потеснившись. Долго жить там нельзя было, начал беспокоиться дворник. Гита осталась в Павловске, Лия и я поселились в комнатушке в переделанной из бани квартире на Выборгской. Старшая сестра, Эстер, вышла замуж сразу по приезде в Ленинград и вернулась с мужем в Белоруссию.
<…> У отца была сестра в Ленинграде с мужем, дочерями и сыном в одной комнате. У них отец лежал с инфарктом, то есть почти и не лежал — не было там возможности для этого, хотя дядя и тетя были очень добрыми людьми. <…> Однажды, в первое время нашей жизни в Ленинграде, к отцу пришел сенатор из Швеции, встретились они у тети, а я потом должна была проводить его к трамваю. И по дороге он спросил меня с изумлением: «Неужели в этой комнате спят два человека?» Там было две кровати. Если бы он знал, что на ночь ставились раскладушки! (Разговор шел на идиш.) <…>
Отец писал, и в Ленинград мы привезли ящик с рукописями. Он остался у нас, сестер, а в блокаду соседи сожгли его. Мы жили тогда в большой коммунальной квартире на Петроградской стороне втроем, уже с Гитой, а в войну уехали.
В Ленинграде отец читал однажды в хасидской синагоге доклад (а дроше) на тему «Духовное и телесное». Гита слышала, как выходившие оттуда люди восторженно отзывались о докладе. К сожалению, это все, что я могу вспомнить о такой деятельности отца. <…>
После отца раввином в Ленинграде стал Лобанов («дер Леплер ров») . После войны он был арестован и отбывал срок (~3 года) в средней полосе России, потом вернулся. После его смерти его жена и три дочери с семьями уехали в Израиль. <…>
В письмах упоминаются другие дочери раввина Глускина, в том числе Лия Менделевна. Сестры были очень близки. По свидетельству друзей, Софья Менделевна долгие годы не уезжала в Израиль, потому что считала своим долгом ухаживать за больными Лией с мужем, потом за одной Лией, которая, в свою очередь, считала непорядочным ехать в Израиль и становиться там иждивенкой.
Лия Менделевна Глускина (1914–1991) окончила ЛГУ в 1941 году и была направлена преподавать в деревенскую школу под Казанью. После войны вернулась в Ленинград, под руководством С. Я. Лурье написала и защитила кандидатскую диссертацию «Политическая роль Дельфийского оракула», через 20 лет — докторскую — о социально‑политической истории Афин. Ее исследовательский интерес был сосредоточен на двух важнейших древнегреческих полисах — Афинах и Дельфах. На протяжении нескольких десятилетий преподавала историю Древнего мира в Педагогическом институте А. И. Герцена сначала в должности доцента, затем профессора кафедры всеобщей истории. Помимо собственных книг и статей участвовала в коллективных трудах по истории Древнего мира и Древней Греции, переводила речи Демосфена, Исократа и др.
Еще учась в университете, Лия Менделевна вышла замуж за своего однокурсника, тоже ученика С. Я. Лурье, Иосифа Давидовича Амусина, в будущем — великого кумрановеда, автора книг «Рукописи Мертвого моря», «Тексты Кумрана», «Кумранская община» и других, который восстановился в университете, незадолго до того вернувшись из лагеря.
Об этом — не первом — аресте и лагерном сроке Амусина рассказывает в письме его брат Марк Давидович Амусин. Письмо было передано в архив Центра по исследованию и документации восточноевропейского еврейства Гитой Глускиной .

В nbsp;1937 году Иосифа Давидовича Амусина, студента исторического факультета Ленинградского Университета, проживавшего в общежитии истфака, вдруг ночью арестовали. Он вернулся из кинотеатра «Баррикада» <…> Его уже ждали сотрудники НКВД. Они произвели обыск и увезли его в знаменитую тюрьму «Кресты». <…> Мы долго ничего не могли узнать о нем. В каждом месяце можно было попытаться навести справку именно в тот день, когда заглавная буква фамилии заключенного совпадала с расписанием. Ну, например, сегодня можно справляться только о фамилии, начинающейся на букву «А», а завтра, то есть на следующий день, — на букву «Б», затем — на букву «В» и т. д. <…> Однажды, по истечении многих месяцев, мне удалось прорваться и получить справку о том, что, согласно решению «тройки» — особого совещания, Иосифа приговорили к 8 годам лагерей. Позже я получил разрешение передать теплые вещи и настоял на свидании с заключенным.
И вот, настал день свидания. Представьте себе длинный коридор, куда впустили много таких, как я, людей. Справа — капитальная стена этого дома — с окнами, а на расстоянии около двух метров от нее — туго натянутая металлическая сетка — от пола до потолка. Через метров шесть от этой сетки смонтирована — так же от пола до потолка — металлическая решетка. В середине, между «стенками» из проволочной сетки и тюремной металлической решетки, прогуливались, как по проспекту, охранники‑стрелки. Заключенных впустили по другую сторону от «стенки» из тюремной решетки, а нас — в упомянутый коридор, образованный стеной дома и натянутой сплошной металлической сеткой. Я увидел Иосифа.
Чтобы что‑нибудь понять, люди пытались громко разговаривать на расстоянии столь большом. В этот крик‑разговор вмешивались охранники, которые очень мешали. Иосиф в первые минуты свидания, когда крик еще не достиг кульминации, успел мне сказать, что его нещадно били, задерживали отправление естественных надобностей, как‑то подвешивали и др. В совершенно изнуренном состоянии он решил подписать любую бумагу — с любым обвинением, так как дальнейшее сопротивление при нелепых показаниях, полученных от других, проходящих по этому делу, просто грозило существованию.
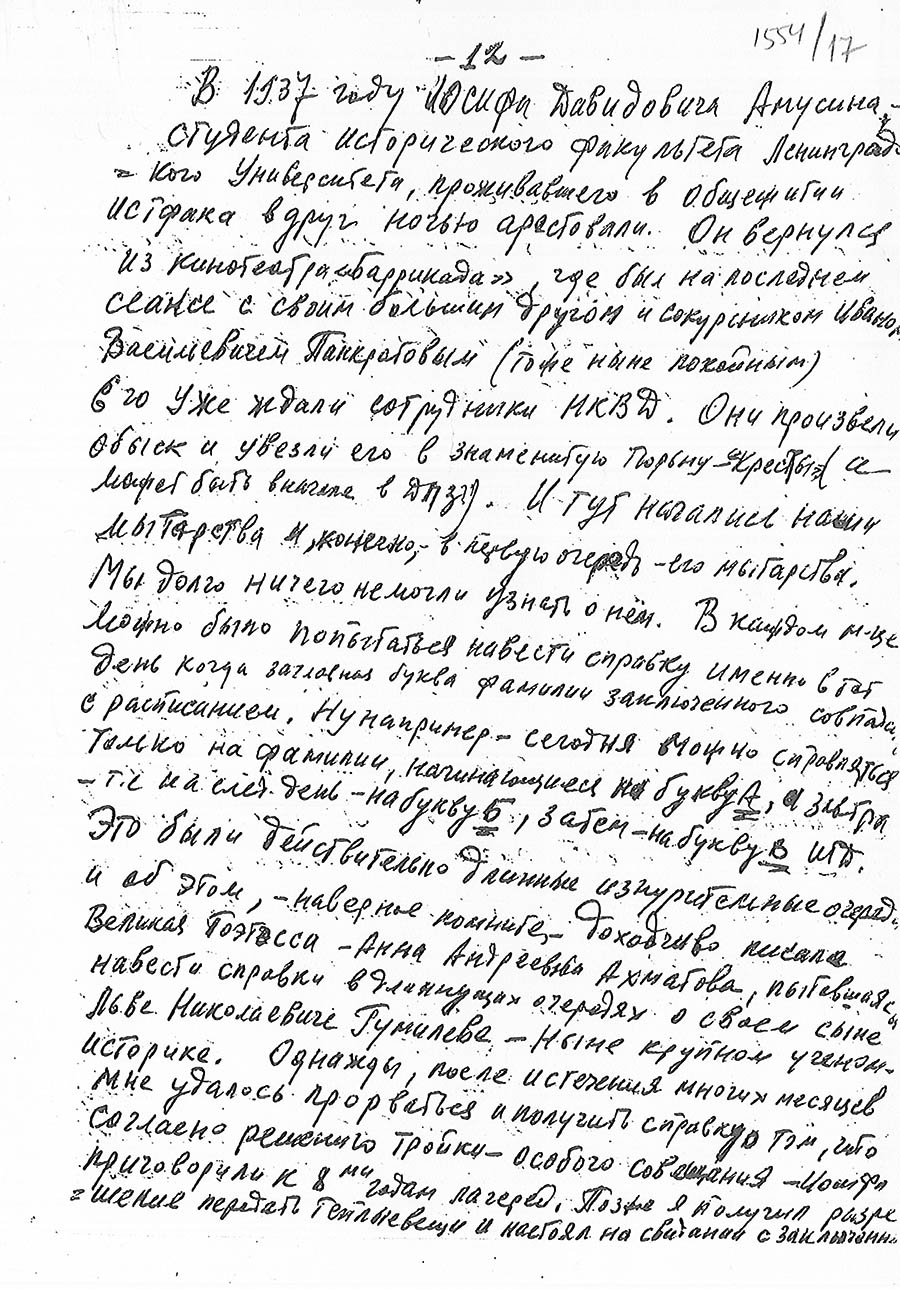
Иосиф мне поклялся, что все обвинения по данному делу сфабрикованы от и до, что решительно никакой антисоветской деятельностью, в данном случае, вообще не занимался. <…> Прокурор сказал ему: «Ты — антисоветская сволочь и все врешь». Начались мои бесконечные поездки в Москву в Прокуратуру СССР и в НКВД, и, конечно, все было безрезультатно. По заявлениям меня вызывали в Большой дом в Ленинграде и, помню, пытались выяснить, кем же мне приходится Иосиф — только братом или другом‑соратником, с которым я разделяю взгляды. Я шел на эти вызовы, предварительно попрощавшись с родными. А в портфеле у меня было чистое белье и пр. Но меня, слава Б‑гу, отпускали домой.
В одной из командировок в Москву мне удалось в Прокуратуре СССР записаться на прием к Главному Прокурору СССР — Вышинскому А. Я. Дата приема была не определена и подлежала уточнению. По наведенным справкам, это могло быть не ранее двух‑трех месяцев. И в это время <…> у меня созрел план предпринять поездку в лагерь для свидания с Иосифом. Но это уже был декабрь месяц. Начнем с того, что могли не предоставить разрешение на свидание. Лагерь расположен в глубинном районе гор. Соликамска <…>.
Мне раздобыли деревянный ящик — сундучок с крышкой, который прикрепили к деревянным саночкам, так как после наполнения пластами свиного шпика и других продуктов он стал для меня просто неподъемным. Так я и путешествовал в дальнейшем — с саночками и прикрепленным к ним ящиком.
Соликамский отдел НКВД, куда я пришел в вечернее время, был ярко освещен, и в вестибюле было видно продвижение довольных собою, хорошо одетых, в белоснежных бурках, отделанных коричневой хромовой кожей, военных людей. Здесь мне наотрез, категорически отказали в свидании. Я ужасно расстроился. Они уверяли, что свидание невозможно, что я замерзну в пути и что я не соображаю, с чем связана такая поездка. Действительно, я выезжал из Ленинграда, когда была затянувшаяся оттепель — в шляпе — без ушанки и теплой обуви. Словом, на редкость легкомысленно. Я продолжал настаивать и очень просить о разрешении свидания. Потом, наконец, надо мною сжалились и разрешили, из милости, свидание на два часа в присутствии лаг[ерной] администрации.
Мне пришлось предпринять поездку из г. Соликамска в Ныроб (это приблизительно 200 км) в открытом кузове грузовой автомашины — буквально между бочками с бензином. Сердобольная женщина, у которой я остановился в Соликамске, <…> дала мне какой‑то дырявый обрывок овчины и теплые перчатки. Было ужасно холодно. <…> [В Ныробе] я отправился со своими саночками просить предоставить мне лошадь с кучером, чтобы ехать в лагерь, расположенный в так называемой «командировке» Низва (расстояние от Ныроба примерно 35–40 км). Мне там указали на дом кучера Михайлы, который, может быть, согласится ехать, а может, и нет. Других предложений не было. В доме кучера мне, можно считать, повезло. Два стрелка‑охранника сидели в застолье и пили водку по поводу сватовства к крупной мясистой девушке — дочери кучера Михайлы. У них кончилась водка. Я учел момент и предложил деньги на литр водки. Это предложение было с воодушевлением принято. Товарищ жениха быстро куда‑то сбегал и принес две бутылки зубровки. Пьянка продолжилась с моим активным участием, а утром Михаил запряг лошадку в сани, и мы тронулись в путь в сторону командировки Низвы. Это был тяжелый, незабываемый путь. Через каждые 200–300 метров не в меру норовистая лошадка дергала и опрокидывала запряженные сани с седоками. Кучер ловко выскакивал из саней, а я ударялся мордой об лед и острый снег. И так было на протяжении всего пути движения к лагерю. Мы доехали до вышек лагеря, когда уже начало смеркаться. <…>
И вот, наконец, состоялась встреча — прямо в проходной. Для [Иосифа] это было полной неожиданностью. Мы оба были счастливы встрече. Он оброс длинной рыжеватой бородой. На ногах были калоши, а ступни были обернуты тряпками. Вид был ужасный. Это был отмежевавшийся старик, и я, право, испугался. Первое, что поспешно сделал Иосиф, пока не подошли урки из бани, — вытащил из ящика несколько кусков шпика и в уже наступившей темноте, перешагнув через сторожку в тамбур и во двор, бросил их в снежный сугроб. Как потом он рассказал, это было очень здорово им придумано, так как он ежедневно (незаметно) отрезал по кусочку шпика и поддерживал свои иссякающие силы. Остальным содержимым деревянного ящика пришлось «поделиться» с урками. Я распространил слух среди персонала и охраны, что моего брата скоро освободят. Им, якобы, занимаются в Прокуратуре Союза, и поэтому я и предпринял эту поездку, чтобы предотвратить гибель брата. И это, действительно, возымело действие. Позже мне стало известно, что его перевели с лесоповала — в пайкодатчики. Много позже он написал в дарственной надписи мне на своей монографии «Рукописи Мертвого моря» (привожу по памяти): «Мокочке, моему дорогому — одному из “виновников” создания этой книги».
<…> Получилось очень удачно, что у Иосифа было заготовлено обстоятельное заявление на имя Генерального прокурора СССР, в котором он подробно и доказательно изложил всю нелепость обвинения и настаивал на пересмотре дела и освобождении из заключения. Я понял, что это заранее заготовленное заявление было несомненным успехом. Я обещал Иосифу, что не оставлю своих усилий — до положительного результата.
<…>
Так случилось, что одновременно со мной в Москву в командировку выехала Соня, и мы вместе в назначенный день пошли в Прокуратуру СССР. Прием вел не Вышинский, а его заместитель — Рогинский . На столе перед ним лежало, по‑видимому, затребованное дело. Я и Соня стояли рядом, сесть нам не предложили. Я передал ему свое заявление с просьбой о пересмотре дела и вручил личное заявление Иосифа. Рогинский во время чтения громко произносил: «Вранье! Чушь! Сочинение!!!» Я вначале держал себя в рамках приличия, а потом, когда он вызывающе спросил, что, собственно говоря, нужно мне? «Просьбы эти бездоказательны» и пр., я ему довольно внятно ответил, что брат мой ни в чем не виновен, что личное свидание в «Крестах» в Ленинграде и встреча в лагере окончательно убедили меня в этом. Все изложенное в заявлении И. Д. Амусина — это несомненная правда, и это однозначно. Он неоднократно выкрикивал: «Вы — демагог и брат ваш тоже. Он все это складно придумал‑сочинил, чтобы очернить нашу действительность». Я бойко возражал ему, а сестра моя все время дергала меня за рукав и умоляла успокоиться, тем самым еще более расковывая и раздражая меня. Кончилось тем, что Рогинский продиктовал референту — молодому парню, лет 25: «Передать дело на рассмотрение и проверку в Военную Прокуратуру». Мне он сказал, что, по‑видимому, я сослужу плохую службу своему брату, если в Военной Прокуратуре разберутся (у них больше времени и возможностей) — и признают, что Амусин И. Д. понес заслуженное наказание. Я поблагодарил его и отчеканил, что я ни капельки не сомневаюсь, что брат должен быть и будет освобожден. Я даже набрался храбрости спросить тут же у референта, где находится Военная Прокуратура и к кому там можно обратиться? Референт ответил: «Вам сообщат о результате», — и добавил, что Военная Прокуратура находится этажом ниже. Комната 208, обратиться к тов. Васильеву.
<…> [Васильев] нас принял, внимательно выслушал и был предельно любезен. Это был вежливый офицер в высоком чине. Он обещал нам внимательно изучить дело и прислать ответ на наш адрес. Такое обращение было в новинку, во всяком случае для меня. За долгое время мне не приходилось разговаривать и общаться с этими людьми в нормальном тоне, чтобы я не был ими унижен.
<…>
И, наконец, поступило от Васильева долгожданное известие о том, что ходатайство удовлетворено и что И. Д. Амусин будет освобожден из заключения в ближайшее время. Кто знает? Возможно, что освобождение Иосифа и других молодых людей по этому делу совпало с тем, что к власти в НКВД в то время пришел Берия. Казалось бы — парадокс? После устранения Ежова Берия выпустил из лагерей малое количество заключенных, что должно было якобы свидетельствовать, что начали «исправлять ошибки» (пошла такая молва). Люди думали, что с их родственниками были допущены ошибки, а вообще‑то все массовые аресты правильны. Многие не представляли себе масштаба репрессий. Многие наивно верили, что Сталин не знает о несправедливостях.

<…> Иосиф снова вернулся в ЛГУ на Истфак, который через пару лет закончил. Успел жениться на сокурснице Лие Менделевне Глускиной, и началась война 1941–45 гг. Иосиф ушел добровольцем на фронт и демобилизовался после окончания войны из Восточной Пруссии.
Об одиссеях этого незаурядного человека, кристально честного и мужественного, большого ученого, следовало бы написать книгу — за период от его многолетних предвоенных скитаний, а также о его жизни после войны — до смерти 12 июня 1984 года.
Здесь, в этом повествовании, речь шла о последнем аресте Иосифа Давидовича — в 1937 году. До этого много лет он сидел в тюрьмах и был сослан в Нарымский край, село Каргасок, — по обвинению в сионизме. Позже его переправили для отбывания ссылки в г. Казань, а затем ему разрешили выехать в Ленинград.
Дальше была работа в качестве гл. бухгалтера завода (он закончил Ленинградский промышленно‑экономический техникум), затем поступление на истфак ЛГУ.
<…>
Всего вам самого наилучшего. Зайт гезунт, майне таере. Ланге ёрн .
<…>
Любящий и уважающий вас Мока
1990
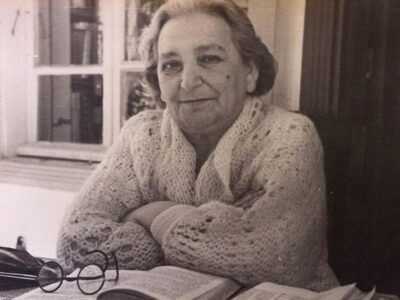
Еврейская свадьба на переломе эпох: по письмам и дневникам Ханы Кагана

Выпускник ивритской гимназии в Риге, исследователь испанского еврейства

