Начало см. в № 3–7, 9–12, 1–2, 4–7 (299–303, 305–310, 312–315)
Малаховка
Было еще одно письмо, пришедшее мне на зону, о котором я не рассказал в майсе «Ребята, напишите…» Прислал его мой друг Сашенька Ратинов. Этот удивительный человек совсем неизвестен среди моих единомышленников. Официально его зовут реб Хаим‑Александр, а Сашенькой мы его называли за его миниатюрность, скрывающую «гиганта мысли и отца еврейской теократии». Ратинов может вам рассказать неопубликованные факты из жизни самых разных религиозных авторитетов, глав хасидских дворов и их потомков, сообщить неизвестные исторические детали и тайные смыслы раввинских постановлений. Персоналу московской психиатрической больницы № 13 он дал такой разбор исламской революции в Иране и прогноз ее последствий, что его признали невменяемым без дальнейшего обследования. А между прочим, почти все сбылось…
Сашенька пришел к соблюдению в весьма юном возрасте, рано женился на студентке МГУ (ленинской стипендиатке), комсомолке, спортсменке — мастере спорта по горным лыжам и наконец просто красавице Юле. Ими была изобретена новая женская специальность — «кадровая декретчица». Юля оформилась уборщицей подземного перехода и, едва выйдя на работу, ушла в декретный отпуск. Родила Йосю, а потом поочередно еще троих детей. Четыре года получала или полный оклад (до и после родов), или треть оклада — до достижения ребенком возраста одного года.
Реб Хаим‑Александр не принадлежал ни к одной группе московских баалей тшува, не был ни хабадником, ни литваком, никем. Молился по толстенному сидуру «Ликутей Цви» дореволюционного издания, которого больше ни у кого не было. Имел на все свое, довольно эксцентричное мнение. В Москве мало кто делал капорес на куриц, а миниатюрный Сашенька приволок в синагогальный двор огромного живого индюка. Кто кем в результате крутил, было сложно понять, но на крики и хохот прибежали даже работники редакции «Советского спорта» из соседнего здания…
А самое главное, Саша — замечательный друг, отзывчивый и надежный. Я много раз проводил у них в доме шабос и до, и после моей женитьбы, он помогал мне покупать кошерное мясо. И он не боялся писать мне на зону.
В советское время людям, отсидевшим в тюрьме, было невозможно устроиться на работу. Со справкой об освобождении не брали даже подсобными рабочими.
В том письме Ратинов сообщал мне, что его назначили директором Малаховского кладбища и что он гарантирует мне трудоустройство. «Считай, что ты уже принят на работу моим заместителем», — писал Саша. У меня даже не было возможности поблагодарить его: вскоре меня отправили на этап, а с этапа письмо не пошлешь…
Малаховка являлась, по сути, третьей московской общиной, там была синагога — маленькая, но живая. Пока я сидел, община эта начала крепнуть. Там стали селиться молодые религиозные евреи не только на лето, но и на весь год. В синагоге стала заправлять молодежь, сделали ремонт. Особенно запомнились братья Тамарины, Миша Гринберг по прозвищу Ухтомский, Зеев Куравский, Ари Кацев. Последний, кстати, помогал моей жене, привозил продукты. Председателем правления поставили Боруха Фиха, тот, конечно, пытался лавировать между двух огней, то есть гэбэшниками из «культа» и евреями, но сделал доселе невозможное: допустил религиозных к управлению религиозной общиной. Борух, благословенной памяти, и назначил Ратинова директором еврейского кладбища.
Когда я освободился, жена с двумя нашими малышами, Пинхасом и Янкеле, жила в Малаховке, сняв там дом. На следующий день после приезда я отправился в контору кладбища. Это было больше чем через год после того письма на зону…
Был конец февраля, зима выдалась холодная. Замотавшись шарфом по самые уши, я пробирался через сугробы. В кармане — справка об освобождении по форме Б («по звонку»), в сердце — возбуждение (новая жизнь начинается!), ликование (я вышел оттуда живой!), в голове — заботы (надо кормить семью, воспитывать сыновей, наверстывать упущенную учебу!). Я иду куда хочу, и «шаг вправо, шаг влево» уже не рассматривается как побег.
Захожу, в комнате сидят четверо амбалов, и самый амбалистый из них, как потом выяснилось, их бригадир Толик, на спор держит в вытянутой руке шестигранный лом — «карандаш» (14 кг). Рука не дрожит, лом не шелохнется. Я жду минут пять, а Толик все держит.
— А че сидим? — спрашиваю.
— Вы кто? — Амбалы поднимают на меня глаза.
— Я ваш новый начальник.
— А!.. Дык мы закончили уже, — изрек Толик, не опуская лом…
Должность моя называлась заместитель директора по ритуальной части. За неделю я обучился обмывать умерших, облачать их в тахрихин, делать все это с уважением к ним, хоронить и петь «Молэ». А Борух взял с меня слово не подавать на выезд, не уволившись с кладбища. Так что проработал я там три месяца, пока меня не вызвали в «контору».
Дома тем временем шла война с крысами. Жена их боялась и даже, по совету Саши, оставляла на ночь хлеб на столе в кухне, чтобы крысы не оголодали и не напали на спящих детей.
Дом, который мы снимали, был огромным. Вторым этажом мы вообще почти не пользовались. Надо сказать, что с первого месяца после моего ареста и вплоть до освобождения жене помогали деньгами, об этом надо будет рассказать отдельно. Летом 1986‑го, после рождения второго сына, Марина уехала из Шуи в Москву. Меня перед этим перевели на другую зону, из Шуи в Новоталицы. Московские друзья помогли Марине снять дом в Малаховке, нашли соблюдающую женщину ей в компанию. Когда же я освободился, то, устроившись на кладбище, стал получать неплохую зарплату, так что на аренду хватало. Нам с женой удавалось собирать много друзей на Пурим и на пасхальные седеры. Во время моей отсидки наша компания, cформировавшаяся вокруг Мойше и Элиёгу, разрослась и окрепла, хотя сам Мойше с родителями получил разрешение и уехал еще в 1985 году. Однако, уехав, он не утратил с нами связь, задавал наши вопросы иерусалимским раввинам (в том числе о соблюдении мною кошера в ивановской больнице, где я лежал с гепатитом). Ребята вместе учились, росли в еврействе, а с моим возвращением появилась возможность собираться в этом просторном малаховском доме.

На Пурим, а это было практически сразу после освобождения, ко мне в Малаховку собралась вся квуца, как мы себя называли: Элиёгу Коган, Ицхок Фридман, Леня Петренко, Гена Массажист, Илюша Литвак, Цви, Эдик и еще человек семь‑восемь. Было весело и шумно. Я снова был среди друзей. Среди единомышленников. Я был в компании людей, с которыми хотел быть, а не с которыми случай свел меня в тюремной «хате», «воронке», бараке или «столыпине». Хотя ощущение, что в любой момент могут нагрянуть вертухаи и раскидать всех по карцерам, оставалось…
Свиток читали в малаховском шуле, была половина хасидов — половина нас. Потом вернулись ко мне на трапезу. Сидели на веранде второго этажа. Водки выпили немерено, и я почти до рассвета бродил от дома до станции и обратно, чтобы развеялся хмель, и смог помолиться маарив (вечерняя молитва). Наутро я разбудил тех, кто «по состоянию здоровья» не уехал в Москву вечером. Один из «молодых» (я‑то был уже «бывалым») в процессе веселья, как бы это покультурней выразиться, неважно себя почувствовал и испачкал стены веранды. Я напомнил ему об этом утром, предложил подняться наверх и все убрать. Парень пошел, но делал это брезгливо и с оттенком обиды, дескать, как это его, такого знатока Торы, используют на черных работах, ведь он же мицву исполнял, «чтобы не отличать…»! Он вообще где‑то нашел, что ущерб, нанесенный во время пуримного застолья, не взыскивается…
— А ты хотел, чтобы моя жена это делала? — грозно спросил я, а в душе потешался над «молодежью».
На пасхальный седер у нас тоже собралась большая компания. Приехать смогли не все, ведь некоторые уже были женатыми (Гена женился, пока я сидел, а Элиёгу — еще до меня), но многие. Мы с Илюшей Литваком съездили в Грузию, испекли там мацу и, хотя по причине нашей неопытности она получилась толстой и страшно твердой, были горды, что испекли ее сами и снабдили нашу квуцу таким ценным продуктом. На Песах я купил на рынке и зарезал у реб Мотла пять куриц, самолично ощипал их, разрезал, проверил внутренности и откошеровал. Полкурицы, правда, досталось крысе (вот прожорливая!), стоило мне только прилечь отдохнуть.
В Москве было два еврейских кладбища: Востряковское, которое было к тому времени закрыто, хоронить там стало нельзя, и Малаховское, закрытое официально. Хоронить там тоже было нельзя, а вот подзахоронение разрешалось, то есть для того, чтобы получить разрешение на похороны, надо было принести в исполком (или куда там) справку, что участок уже имеется, там похоронен близкий родственник и есть место для подзахоронения. Борух Фих давал такие справки. Мы с Сашей разговаривали с родственниками умерших и иногда консультировали их по вопросам еврейского закона, обмывали покойника, облачали его в тахрихин, проводили похороны. Иногда ночью сидели (поочередно) в комнате с покойником, читая псалмы, чтобы не оставлять его одного.
Много времени я проводил с детьми, вдруг став папой сразу двух сыновей — двухлетнего Пинхаса и полугодовалого Янкеле, играл с ними, учил одного говорить «Тойро циво…» и «Шма», вставал к другому по ночам. Переход от лагерной жизни к «вольнячьей» был довольно резким, мне надо было просто оттаять, прийти в себя, погрузиться в заботы, в деятельность. Я был страшно благодарен Марине за то, что она выдержала все это, поддерживала меня своими письмами, ездила ко мне, родила и выкормила мальчиков. Благодарен ее родителям, помогавшим ей быть «женой декабриста»…
На пустом втором этаже я соорудил себе место для учебы и молитвы. Мне казалось, что я так сильно отстал в учебе от своих друзей, что мне жизни не хватит, чтобы догнать их.
Как я изменился за время отсидки? Накинулся на «бациллу» и начал набирать вес. Стал чуть менее социальным, часто предпочитая молиться в одиночку и наизусть, а не в синагоге и по сидуру. Хотя и с друзьями по‑прежнему общался. И главное: люди теперь для меня делились на тех, на чье слово можно положиться, а таких очень немного, и тех, на чье слово положиться нельзя, — балаболов…

Я ходил по Малаховке в кирзовых сапогах, черном плаще и с уже порядочно отросшей бородой. Маленькие дети, завидев меня, испуганно кричали: «Карабас!»
Мы с женой нашли русскую женщину, державшую корову и козу. Я ходил к ней наблюдать за дойкой и покупать парное молоко. Однажды с маленьким Пинхасом мы шли туда посмотреть, как телится корова, но опоздали: теленок уже родился и пытался встать на ноги. Пинхас дружил с соседской болонкой Бунькой, играл и бегал за ней. Однажды мы шли с ним за молоком, сын шагал метрах в двух впереди меня. Вдруг из‑за угла выскочила огромная собака. Я испугался за ребенка, а тот бросился к ней, глядя снизу вверх, с криком: «Бунька!»
В марте Пинхас сильно простудился, и мы с женой боялись, что это воспаление легких. Все симптомы… Телефона у нас нет, на дворе ночь, а в Малаховку «скорая» приедет нескоро, да и толку от нее немного — заберут в инфекционное отделение, только хуже… Я — ноги в руки и в райбольницу, которая от нас в трех километрах. Прибежал — двери заперты. Нашел светлое окно и начал туда тарабанить. Открыла тетка в белом халате, я через окно уговорил ее выдать мне упаковку пенициллина и назвать дозу для двухлетки. Побежал домой и начал колоть пенициллин своему первенцу в ягодицу. Пневмония потом не подтвердилась, но курс антибиотиков я ему проколол. А неделю спустя Янкеле упал с кровати на железный барабан и рассек верхнюю губу. В общем, скучно не было…
Прожили мы там почти до самого отъезда из Союза, до звонка из «конторы».
Странное дело: мой статус «отсидента», как я уже писал, будто притягивал ко мне людей, искавших возможности исповедоваться в своем «сотрудничестве». В первые же месяц‑два после освобождения аж три человека из нашей небольшой сравнительно компании сообщили мне по секрету (каждый в отдельности, конечно), что дали согласие стать «информаторами». Один из них, 25‑летний Леня Петренко, был завербован еще во время службы в армии. Начав вращаться в еврейских кругах, он продолжал писать отчеты своим кураторам. Теперь, когда он стал соблюдать все серьезно, сексотство стало ему в тягость, но как положить ему конец, Леня не представлял. Надо сказать, что он был компанейским парнем, легко сближался с людьми, но был способен и на серьезную учебу — довольно быстро выучился на бааль койре, чтеца Торы в синагоге, что требует хорошего голоса, музыкальных данных и тренированной памяти. Он уже читал в малаховской синагоге свиток Торы по субботам и делал это очень неплохо.
Была в нашей компании женщина средних лет из Гомеля по имени Нехама. Очень добрая и очень еврейская. Она решила помочь Лене с шидухом, то есть найти ему невесту. Для начала Нехама захотела узнать побольше о самом парне, отправившись для этого к его маме. Женщины славно провели время, разглядывая за чашкой чая семейные альбомы. Но что‑то в них Нехаму насторожило.
— А кто у вас в семье еврей? — спросила она напрямик.
— У меня, — ответила мать, — точно никого. Может, у бывшего мужа, отца Ленечки, кто был еврей? Не знаю…
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Этот человек не только писал свои «источник сообщает», но и, не будучи евреем, был много раз десятым в миньяне, да еще читал Тору с бимы, то есть был нашим посланником, когда вызванный к Торе произносит браху, а бааль койре читает… Я был потрясен до глубины души…
Среди новых людей, пополнивших нашу компанию уже после моего ареста, был Ицхок Фридман, парень на два года меня моложе, студент одного из «разрешенных» для евреев вузов (не то «керосинки», не то «менделавки»). Он даже приезжал навестить меня в Шую, где я сидел на расконвойке весной 1986‑го, привез продуктов на Песах для моей жены, снимавшей дом в поселке. Мацу и кошерную колбасу мои друзья раздобыли в Риге, баночки с детским питанием доставил в Москву бизнесмен из Цюриха. Нашему первенцу Пинхасу в Шуе исполнился годик, а жена была на седьмом месяце беременности. Ицхок вез продукты, а заодно и книги для меня поездом. Институт он тогда уже бросил и очень заметно продвигался в талмудической учебе. Соблюдал по‑серьезному, носил цицит наружу, говорил «Бенч» («Биркат а‑мазон») наизусть и громко, не стеснялся молиться в тфилин в плацкартном вагоне.
С личными качествами было сложнее, но кто же на них смотрит, когда мальчик за пару лет проходит путь от алфавита до Геморы «Авойдо зоро» и цитирует Маарам Шика.
…В черном костюме и шляпе он садится за стол в избе на Третьей Болотной улице в Шуе. Марина ставит на стол еду. Молодой илуй (гений) смотрит на свой стакан и говорит, что он грязный. Побледневшая хозяйка хватает всю посуду со стола и бежит перемывать, благо вода в доме есть, она только что принесла два полведра от колонки за четыре квартала (два полных ведра беременная по гололеду не осилит). Смущенно ставит стакан перед Ицхоком и извиняется. Тот внимательно осматривает его, как ребе эсрог, и заявляет, что стакан все равно грязный. Служба медом жене уже не показалась…
Вернувшись из мест не столь отдаленных, я начал собирать свою библиотеку сфорим, которую мои друзья эвакуировали в первые дни после ареста. Часть книг хранилась теперь у Ицхока, и я отправился к нему в Ясенево, захватив с собой два больших туристических рюкзака («абалакова» — вы уже знаете!).
Ицхок жил поначалу в этой квартире с родителями и младшей сестрой, но конфликты на религиозной почве с отцом‑коммунистом достигли такого накала, что родитель в какой‑то момент взял жену и дочь и переехал на другую жилплощадь, освободившуюся после смерти бабушки. Сын остался один в трехкомнатной квартире, и принялся за учебу со всем своим юношеским максимализмом и недюжинным интеллектом. Выходил он из дома только для того, чтобы купить пачку чая. С утра до вечера штудировал: полдня Талмуд и полдня «Тур» и «Шулхон орух». Большой. С комментаторами и раввинскими респонсами последних пяти веков. Фридман даже внешне стал походить на святого Рогачевера. Мама Ицхока навещала его раз в неделю, чтобы постирать вещи и привезти продуктов, но он требовал, чтобы она покупала их только на деньги из ее собственной зарплаты, подачек от еретика‑отца не принимал.
Пока я собирал свои книги с полок и складывал их в рюкзаки, Ицхок с воодушевлением говорил о галахических проблемах, сыпал именами авторитетов и названиями их трудов. «Сдей Хемед», рабби Яков Эмден, «Хосам сойфер», «Смаг», «Шло»! Мне становилось стыдно за свою безграмотность и «мучительно больно за бесцельно прожитые годы».
Упаковав оба рюкзака под завязку, я потащил их в прихожую, где остались мои ботинки. Там я поместил было свой багаж на табурет, ведь мне надо было обуться, а ставить рюкзак со святыми книгами на пол не хотелось. «Нет, нет, нет! — замахал на меня руками хозяин. — Табурет отцовский!» Отрицательный херем, если кто не в курсе. Мне пришлось надевать ботинки, повесив один «абалаков» на спину и держа другой в руках…
На наших совместных уроках, собиравших почти всю нашу хевру — человек пятнадцать, мы штудировали Гемору, галахические книги, этику. Ицхок был одним из самых знающих, он учил, наверное, больше всех. Однажды он прочитал нам главу из «Шулхон орух», гласящую: «Да не наполнит человек уста свои смехом в этом мире», и пояснил, что после разрушения Храма смех и веселье запрещены. Совсем. Спорить с ним никто не стал, просто при нем никто больше не смеялся.

Я спросил у своего учителя, ведь написано, что Тора совершенствует качества человека, изучающего ее, а на деле мы иногда видим противоположное. Как же так? «Тора исправляет человека, если он учит ее л’шем‑шомаим, во имя небес, — ответил учитель. — Если же кто‑то учит ради того, чтобы возвыситься над другими, то характер его становится только хуже…»
Реб Авром Миллер рассказывал о случаях в Радуне, в ешиве «Хофец‑Хаима», да и в других ешивах, где появлялись студенты цу фрум, суперрелигиозные, обращавшие свой фанатизм больше на других, чем на себя. Они все потом, говорил реб Авром, отходили от Торы и заповедей…
Забегая вперед, расскажу об американском периоде нашей дружбы с Ицхоком. В 1989 году Ицхок получил‑таки разрешение на выезд. В Вестчестере есть отличная ешива для способных ребят. Руководил ею старый ребе из Словакии, настоящий годоль, «из раньших времен». Я поехал к ребе просить его взять илуя из России на учебу. «Об этом не может быть и речи, — ответил старец, — у нас учатся дети из раввинских династий, с рождения оберегаемые в святости, а для баалей тшува есть много хороших ешив. Даже не проси!»
Я все же набрался наглости и повез Ицхока в Вестчестер. Это островок Торы, маленький штетл, ешива и полсотни домов вокруг — ребе, его сыновей‑раввинов, преподавателей ешивы. Все в длинных капотах, с длинными пейсами, с фолиантами Талмуда подмышкой. Я дождался рош ешива в коридоре и бросился к нему: «Только пять минут, ребе, только поговорите с ним!» Через полчаса наедине с Фридманом над раскрытым томом Талмуда старец обнял молодого человека и сказал, что берет его.
Я навещал Ицхока каждую неделю в ешиве, забирая его иногда к себе на шабос. Тот учился и даже пользовался уважением других ребят. Как‑то рош ешива позвал меня (обычно он только хвалил парня) и рассказал, что Фридман постучался к нему в дверь в час ночи, чтобы сообщить, что разбирал главу «Шулхон орух», касающуюся уважения к старцам и мудрецам Торы, и обнаружил, что он, Ицхок, подпадает под определение мудреца, а следовательно, рош ешива пусть будет добр называть отныне его «реб Ицхок»… На полном серьезе! Ректор пожелал студенту спокойной ночи, а назавтра начал обращаться к нему «реб».
Еще через месяц реб Ицхок открыл мне тайну, что Всевышний дал ему понимание в сокрытом (имелась в виду каббала). С помощью этого сокрытого он теперь может управлять животными на расстоянии. Ешива находится в лесу, и через ее территорию пробегают порой олени. Реб Ицхок научился мысленно приказывать оленям останавливаться, поворачивать назад, подходить к нему, давать себя трогать. Контролю подчинялись не только олени, но и белки и другая живность…
Конец истории до банального прост. С помощью того же сокрытого реб Ицхок смог определять, кто вокруг него праведник, а кто не очень. Кто неискренен в своем служении, кем управляют силы зла. И, как это бывает со всеми обладателями «цадикометра», круг «настоящих» стал сужаться, сужаться и наконец сошелся на единственном человеке — на нем самом. Фридман сбежал из ешивы, из еврейского мира и стал математическим гением в американском университете.
Старики, молившиеся в малаховской синагоге, ехали туда и с других станций, шли на утреннюю молитву затемно, надевали свои старые‑престарые талесы и тфилин. Они были маленькими, и помещали их старики на лоб, очень низко. Обращать их внимание на то, что это неправильно — заповедь не выполняется, было бесполезно. Мне было их жалко: с таким трудом они хранили и надевали всю жизнь свои тфилин… Самым заметным из пожилых был реб Шоуль, очень добрый человек, тщедушный и сгорбленный, было ему за восемьдесят. Его головной тфилин лежал выше лба, он был грамотным и с молодежью общался, но о себе ничего не рассказывал, а один из стариков поведал нам как‑то такую историю.
Четверо студентов, ешиве бохрим, решили испытать силу своего битохойн (не путать с биткойном), умения полагаться на Всевышнего. Помните, в истории с жертвоприношением Ицхока Ашем дал Аврому барана, запутавшегося рогами в кустах, для возложения вместо сына на жертвенник?
Ребята, среди которых был и наш рассказчик, взяли с собой книги для учебы и пошли в лес. Уйдя довольно далеко, они набрели на сторожку лесника. Расположившись в пустой бревенчатой избушке, ешиве бохрим сразу извлекли свои геморес и сели за учебу. До глубокой ночи они штудировали Талмуд и легли спать на голодный желудок. Встав на рассвете, они с воодушевлением помолились и вернулись к учебе. А еда? Еды у них не было, но было упование, что А‑Шем пришлет и им «барана», надо только верить…
Наш рассказчик боролся с голодом и верил, но заснуть ночью не смог. Задолго до рассвета он выскользнул из сторожки и отправился искать деревню. Ночью в лесу! Но нашел. И купил в деревне буханку хлеба. Вернулся к лесной избушке, положил хлеб на крыльцо и юркнул обратно на свое место.
Герои встали утром, и опа! На крыльце буханка! Не спит и не дремлет Страж Израиля! Вы будете смеяться, но история повторилась еще дважды: и в среду, и в четверг на крыльце сторожки снова появлялся свежий хлеб. И только один из ребят знал объяснение этого чуда. Или думал, что знал…
В четверг вечером экспериментаторы вернулись в ешиву вполне довольные своим экспериментом. Битохойн работает! Только тот, кто бегал по ночам в деревню, разуверился и отошел от Торы.
У старика, рассказывавшего нам это в 1980‑е годы, на глазах были слезы:
— Лишь много лет спустя я понял, что они‑то были правы: битохойн работает! А я и был тем «бараном», ахар нээхаз басвах, — запутавшимся в ветвях. 
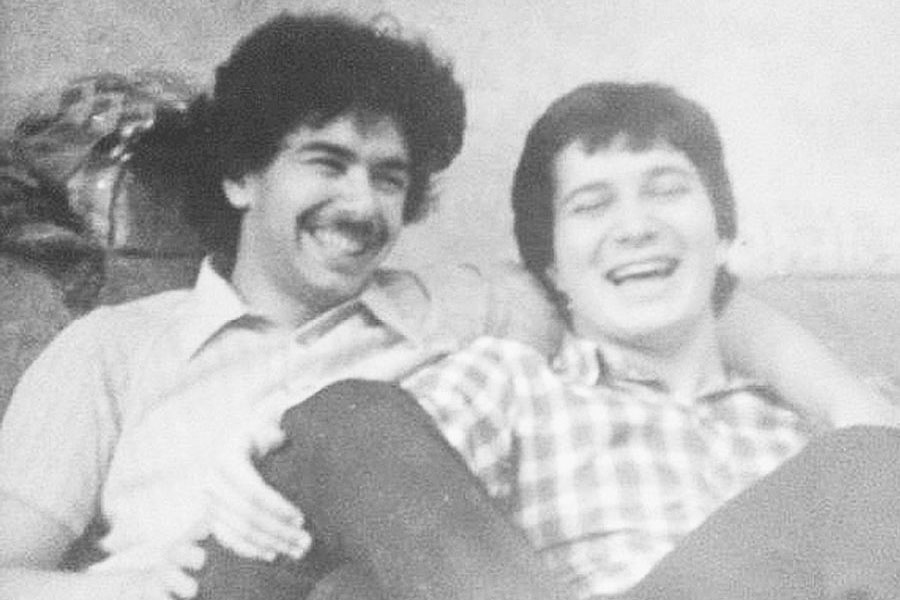
Майсы от Абраши

Майсы от Абраши


