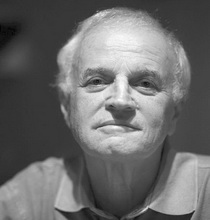Фридрих Горенштейн. Почти непрочитанный писатель
Пятнадцать лет назад ушел из жизни Фридрих Горенштейн, драматург и писатель, автор сценария таких классических лент, как «Раба любви» и «Солярис».

Фигура Фридриха Горенштейна (1932–2002) занимает в литературе второй половины XX века довольно значительное место. Но в то же время он продолжает оставаться парадоксальным автором, чья репутация связана со скандальностью и эффектом непрочитанности.
С одной стороны, Горенштейн — автор сценария таких классических лент, как «Раба любви» Никиты Михалкова и «Солярис» Андрея Тарковского, товарищ и коллега Андрея Кончаловского и Али Хамраева. Горенштейн написал и выправил множество сценарных текстов, в том числе и для известных советских фильмов — только его имя регулярно вымарывалось из титров, а после 1980 года и вовсе не упоминалось. С другой стороны, необычайно плодовитый прозаик, автор пространных романов и повестей о советской жизни 1930–1950‑х годов, а также множества пьес, решенных в стилистике «драмы идей».

Фридриха Горенштейна регулярно сравнивали с титанами классической литературы, эпигоном которой он, безусловно, был. Но эпигоном не в уничижительном газетном смысле, а в культурологическом: описывая опыт человека ХХ столетия, он использовал довольно консервативные стилистические техники. Подобная асимметрия не приводила к самопародии, как это часто бывает, но создавала у вдумчивого читателя своеобразный отчуждающий механизм, позволяющий воспринимать малосимпатичных героев его текстов как обладающих даром речи театральных марионеток. Подобный конфликт, грубо говоря, формы и содержания лишает читателя возможности воспринимать прозу Горенштейна как советский извод магического реализма, его своеобразную hard‑версию. Читатель так или иначе оказывается в неоднозначной, подчас неудобной позиции: каждый раз мы оказываемся перед лицом человеческой деградации или, так сказать, «дискурсивного стриптиза», от которого становится не по себе. Популяризаторы творчества Горенштейна резко противопоставляют его — возможно, с подачи самого автора — неким «постмодернистам», тогда как рассмотрение его текстов на фоне, например, романов Владимира Сорокина было бы весьма продуктивным. Возникает впечатление, что Горенштейн как бы незримо присутствует при чтении, внимательно вглядываясь в читательские реакции: думается, именно поэтому в 1990‑х одним из сценариев Горенштейна заинтересовался Ларс фон Триер, который в своих фильмах проделывал со зрителем то же самое.
Не думаю, что Горенштейн — судя по воспоминаниям, эстетически довольно консервативный человек — предвидел подобный способ прочтения своих текстов. Кажется, его интересовали довольно распространенные для честного автора его поколения темы: в частности, распад человеческих связей в эпоху исторических потрясений, к которым никогда нельзя быть готовым. Испытавший эти потрясения на себе (репрессии, война, раннее сиротство), в своих текстах Горенштейн описал довольно специфический тип, который присутствует во всех главных его произведениях: от небольшой повести «Дом с башенкой» до огромного романа «Место». Это юноша, а затем и мужчина еврейского происхождения, который находит в себе нечеловеческие (иногда — в романе «Псалом» — в прямом смысле) силы для борьбы с давлением среды, обстоятельств и т. д. Мир, в котором он живет, едва ли переносим, окружающие люди — отвратительны, но компенсаторные механизмы и обида, так сказать, держат его на плаву. Герои не в состоянии простить причиненной им боли, но и не всегда могут предъявить счет своим обидчикам, имеющим имперсональный характер власти или божества. Рискну предположить, что тексты Горенштейна движимы ненавистью, которой мало быть просто чувством, и она становится средством выражения, представляющим героев в неожиданном свете. При этом, повторюсь, Горенштейн остается достаточно консервативным автором, для которого что рассказать намного важнее того, как рассказать.
Сборник киносценариев «Раба любви» и гигантская по нынешним временам повесть «Дрезденские страсти» вышли практически одновременно, в конце весны — начале лета 2015 года. Надо сказать, что стилистически и композиционно эти тексты отличаются настолько, что их можно приписать двум разным авторам. Но подобное, как я уже сказал, «раздвоение» было характерно для Горенштейна, для которого кино отнюдь не менее важный способ представления своих идей, чем романы. Так, например, биографию Марка Шагала «Летит себе аэроплан» он назвал не иначе как кинороманом. Это говорит о том, что кино и литература для него не разделялись, но сложным образом дополняли друг друга.
Впрочем, прозе доставалось больше авторского внимания, в первую очередь потому, что Горенштейн — мастер больших интервалов, пространных, подчас запутанных описаний, споров etc. Вместить все это в сценарий среднего объема — значит пожертвовать целостностью и, что более важно, оригинальностью. Так происходит, например, в «Скрябине», где достаточно плоские персонажи сконцентрированы вокруг великого композитора, который — как и положено гению — бросается из огня да в полымя. Речь не о реальном Скрябине, который был человеком своего времени, а о проблеме байопиков в стиле «спасибо что живой», когда автор для пущей наглядности образа вынужден руководствоваться мифами и стереотипами поведения, почерпнутых из не всегда объективных источников. На мой взгляд, это достаточно архаичная практика: странно, что кто‑нибудь из отечественных режиссеров не снял по этому сценарию дурной сериал.

А вот в повести «Дрезденские страсти» подобная плоскостность персонажей к месту, так как создает эффект какой‑то пугающей объективности, получившейся при смешивании авторского сарказма и документальных источников. В этой пространной повести показана целая галерея типов, собравшихся на Дрезденский антисемитический (так!) конгресс в 1882 году. Заседая в одной из пивных, они долго и интеллигентно рассуждают, как все‑таки нужно поступить с евреями, которые захватывают все больше и больше территорий в политике и экономике Европы и Германии в частности. Горенштейн передает эти бредни почти дословно, добавляя от себя лишь ремарки, которые делают картину еще более амбивалентной, если не сказать абсурдной: грань между европейскими интеллектуалами и теоретиками‑живодерами оказывается весьма условной. На страницах повести сталкивается множество изводов антисемитизма (народный, «политически корректный» и др.), но самое важное, что Горенштейн показывает, как формируется человеконенавистническая доктрина, как формулируются ее чудовищные теоретические выкладки. Дальше следует ее легитимация в поле публичной политики… и то, что мы знаем по событиям прошлого века. Другой, менее очевидный, но для Горенштейна принципиальный вопрос, обсуждаемый в повести, — связь между антисемитизмом и социализмом (в «Дрезденских страстях» есть рассуждения о Дюринге, «Анти‑Дюринге» и т. д.).
Лучшая вещь, включенная в книгу сценариев, — «Дом с башенкой». Эта небольшая повесть сделала Горенштейну имя более полувека назад и была экранизирована украинским режиссером Евой Нейман несколько лет назад. «Дом с башенкой» условно разделен на две части: первая повествует об экстремальных военных событиях, в результате которых юный герой теряет мать, вторая — о повзрослевшем герое, типичном шестидесятнике, будущем инженере, который бросает все и отправляется в город, где во время войны умерла его мать. Этот поворот отличает Горенштейна от шестидесятников, ровесником которых он был: если герои Аксенова и Гладилина, скорее, начинали жизнь с чистого листа, а прошлое присутствовало еле заметной тенью, то прошлое для героев Горенштейна пронизывает их жизнь в настоящем, является неизжитой травмой, о которой они не всегда могут говорить. Так, для героя «Дома с башенкой» лихая молодость оттенена утратой, перенесенной в детстве. (Думается, именно поэтому критик Виктор Ерофеев назвал Горенштейна «черной овцой шестидесятничества».) Подобное отношение к травматическому опыту делает тексты Горенштейна актуальными сегодня — хотя это непростое чтение, требующее от читателя колоссального терпения.