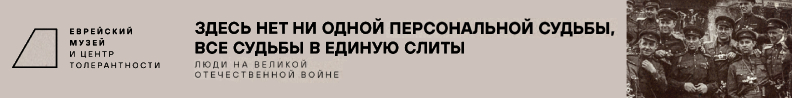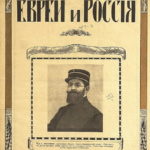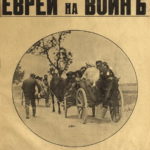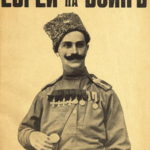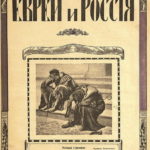Еврейская периодика этих месяцев переживала трудный ренессанс: в связи с войной и активизацией общественной жизни возникла потребность оперативно транслировать известия с театра военных действий и с гражданского фронта и открывались новые издания с такими, например, разнообразными названиями, как «Евреи на войне» и «Война и евреи». С другой стороны, лютовала военная цензура, вымарывались целые полосы, а иные журналы и вовсе закрывались. Бо́льшая часть материалов в еврейской прессе была, разумеется, связана с войной и посвящалась в первую очередь подвигам евреев‑военнослужащих, бедствиям еврейских беженцев и выселенцев и благородной и щедрой помощи им со стороны еврейского общества. В нашу выборку мы включили заметки на чуть более нетривиальные темы, как, например, мессианские ожидания на фоне войны, еврейские подарки казачьим дивизиям, пренебрежение благотворителей к выкрестам, недовольство беженцев своими благодетелями, неудобства отдыхающих на курортах и [footnote text=’Материалы публикуются с сохранением орфографии и пунктуации оригиналов.’]проч.[/footnote]
Война в письмах
Письмо солдата
Дорогие сестрицы!
Благодарю вас сердечно за заботливый уход, ласковое обращение. Да вознаградит вас Б‑г в вашей личной жизни за ваше святое дело, за ваши самоотверженные труды. Надеюсь, что каждый русский воин, пользовавшийся вашим человеколюбивым уходом, на всю жизнь сохранит светлое воспоминание о вас, приносивших ему в дни скорби и страданий облегчение и нравственное удовлетворение.
Не откажите, сестрицы, передать при случае мою глубокую благодарность сестрицам других палат, дежурившим у нас.
До свидания, дорогие сестрицы! Не поминайте лихом злого, нехорошего
М. Горецкого.
Письмо командира
Дорогой Шехтман!
От души благодарю за твою храбрость, преданность и оказанную мне в бою помощь. Ты первый подошел ко мне, чтобы вынести из боя и унести на перевязочный пункт.
Слава Б‑гу, что ты честно выполнил свой долг перед Царем и родиной и остался жив.
Жалко, очень жалко мне Штульмана. О, какой он честный человек был!
До сих пор не знаю, что сталось с благородными братьями Хуц.
Герои мои, память о вас останется у меня на всю жизнь.
Евреи на войне. 1915. № 2.
«Благословение Якова»
«Варшавский дневник» со слов польских газет сообщает: «из различных еврейских общин получаются слухи о большой сенсации, вызываемой стариком‑евреем, который объезжает города и местечки со старой книгой “Бирхас Яков” (“Благословение Иакова”), напечатанной 60 лет тому назад в Жулкеве. В книжке этой определенно сказано, что 1914 и 1915 гг. являются “годами избавления евреев”, которое наступит после великой войны, захватившей “почти все государства мира”».
Евреи на войне. 1915. № 2.
Подарки еврейских дам в Петрограде
Накануне Пасхи, в помещении кружка еврейских дам гор. Петрограда производилась под руководством представительниц кружка спешная работа по сортировке и упаковке различных подарков, отсылаемых воинам к наступающему празднику. Заготовлено было несколько тысяч пакетов. В каждом кисете положены: платок, рубашка, кальсоны, носки (или портянки), табак, бумага и спички и узелок со сластями. Содержимое пакетов собрано еврейскими дамами у целого ряда лиц, сочувствующих этому начинанию. Кроме упомянутых предметов в распоряжении еврейских дам было до 200 000 папирос и тысячи других вещей. Заготовлено было также 500 пар подметок, железки (для подбивания каблуков), дратва и гвоздики.
Подарки посланы «доблестному воинству от евреев Петрограда».
Евреи на войне. 1915. № 4.
- Обложка журнала «Евреи и Россия» № 3 за 1915 год
- Обложка двухнедельного иллюстрированного журнала «Евреи на войне» № 15 за 1915 год
- Обложка двухнедельного иллюстрированного журнала «Евреи на войне» № 4 за 1915 год
- Обложка журнала «Евреи и Россия» № 1 за 1915 год
Корреспонденции
Екатеринослав
Покушение на самоубийство. Вчера на углу Полицейской ул. отравился карболовой кислотой беженец Мордха Зуммер 24 лет, который станционной каретой доставлен в еврейскую больницу. Состояние его безнадежно.
Еврейская неделя. 1915. № 5. С. 36.
Астраханское еврейское общество послало через жену губернатора С. И. Соколовскую в подарок казакам в действующую армию 500 пакетов с гостинцами, собранными среди местных евреев. На днях астраханский раввин Каплан получил следующее письмо:
«Посланные вами и вашими единоплеменниками гостинцы мы получили 8 мая, за что сердечно благодарим от лица 3‑го взвода казачьей дивизии. Получив ваши гостинцы, казаки вверенного мне взвода просят отблагодарить ваших жертвователей за их чувствительное отношение к своим защитникам и за любовь к родине и отечеству. Только при такой поддержке и человеколюбии можно гордиться и надеяться на непобедимость нашей родины.
Сблизила нас эта мировая война — все нации воедино. Так просим вас, г. раввин, передайте наше казачье и душевное и сердечное спасибо от 3‑го взвода».
Вахмистр Алексей Васильев Гусев.
Еврейская неделя. 1915. № 2. С. 22.
Одесские письма
Война и молодежь
(От нашего корреспондента)
Война и еврейская молодежь — это тема, на которую почти одинаково можно писать сейчас из всех пунктов тыла, входящих в нашу «черту».
Всюду отношение к нынешнему моменту нашей молодежи, не ушедшей на войну, выражается в стремлении оказать помощь жертвам событий. Здесь, как, вероятно, и во всех других городах, молодежь с одной стороны, побуждает «стариков» к более энергичной работе, а с другой сама обходит квартиры, собирая деньги, вещи, щиплет корпий, шьет белье, составляет библиотечки для лазаретов и т. д.
В высшей степени характерны некоторые споры, возникшие в среде молодежи в связи с производимыми сборами. На одном собрании молодежи, например, обсуждается вопрос об обходе евр. квартир всего города для сбора в пользу детей евр. запасных. «Заходить ли и к русским?», подымает вопрос одна из участниц собрания. С первого взгляда такой вопрос мог бы показаться даже странным, какое, собственно, отношение к делу помощи имеет национальность. Евреи сами дают деньги всем благотворительным организациям и о‑вам, дают даже непропорционально больше христиан (хотя эконом. полож. одесских христиан многим лучше нашего),
Совершенно иное отношение, более определенное и резкое, было проявлено в вопросе о том, брать ли деньги у «мешумодим». Их в Одессе порядочно, а среди студенчества хоть пруд пруди.
Не знаю, как обстоят такого рода дела в других городах, но у нас в Одессе за последние годы вообще ведь атмосфера особенная, определенная. А в частности, отношение к нам, евр. молодежи, наших русских коллег почти всегда характеризуется если не открытым черносотенством, то в самом лучшем случае не произносящейся вслух, но весьма ясной просьбой: «не раздражайте, пожалуйста, своим еврейством моего арийского глаза и уха».
Форвард.
Еврейский студент. 1915. № 4. С. 34–37.
- Обложка журнала «Евреи и Россия» № 3 за 1915 год
- Обложка двухнедельного иллюстрированного журнала «Евреи на войне» № 15 за 1915 год
- Обложка двухнедельного иллюстрированного журнала «Евреи на войне» № 4 за 1915 год
- Обложка журнала «Евреи и Россия» № 1 за 1915 год
Доброволец Шапиро
Д. Шапиро, уроженец Полтавской губ., 13 лет поступил в музыкальную команду и в августе п. г. отправился с полком в действующую армию.
В одном из больших боев, когда Д. Шапиро под сильным неприятельским огнем подносил патроны, он заметил единоборство знаменосца и австрийца, причем полковое знамя было уже во вражеских руках. Д. Шапиро подполз к австрийцу, выхватил знамя и бегом пустился к своим.
Вдогонку ему была послана пуля, которой он был ранен в ногу. Его подобрали, доставили в штаб. За этот подвиг он награжден орденом св. Георгия 4‑й ст.
Д. Шапиро был доставлен в Киев. Выздоровление его идет успешно, и он надеется скоро снова вернуться в свой полк.
Евреи на войне. 1915. № 1.
Герои‑добровольцы
Девушка — Хая Залкинд
В самом начале войны наблюдала движение военных эшелонов, потом возвращение поездов с ранеными, Хая Залкинд из Вильны всем сердцем стала рваться туда, где сражается наша армия.
Она долго, но безуспешно хлопотала о зачислении ее сестрой милосердия в один из полевых лазаретов; с другой стороны и родители препятствовали ее желанию.
Не видя иного исхода, Хая Залкинд достала солдатскую амуницию, в полной боевой форме отправилась на станцию и села в первый проходивший военный поезд.
Никто не заподозрил в бравом солдате молодую девушку.
Таким образом, она очутилась на передовых позициях. Но вскоре тайна была открыта, и бой‑девушку заставили вернуться домой.
Хае Залкинд 18 лет. Она заявляет, что своего добьется и рано или поздно вернется на позиции.
Евреи на войне. 1915. № 6.
Опровержение тревожных слухов
По словам «Южного края», в иностранных газетах напечатано от имени «Вестника», т. е. петроградского телеграфного агентства, следующее сообщение:
«Петроград, 17 марта. Австро‑германская пресса сообщает, что депутат рейхстага М. Рейцесс обратился к министру Сазонову с открытым письмом, в котором обвиняет русских солдат в различного рода эксцессах по отношению к еврейскому населению Галиции, Буковины и русской Польши. Он утверждает, что в самой России евреи подвергаются непрерывным погромам, что родители раненых солдат‑евреев не имеют возможности навещать их в лазаретах.
«Мы категорически отвергаем эту клевету: армия и народ русский заявляют, что не зарегистрировано ни одного погрома ни в Империи, ни на театре войны, ибо военные власти, стремящиеся поддержать спокойствие в среде гражданского населения, столь необходимое в военное время, не потерпели бы беспорядков.
«Несомненно, однако, что имущества евреев в областях, где происходит война, страдают от разрушений, но религия здесь ни при чем, и на долю евреев выпадает не больше испытаний, нежели на других жителей. Что же касается единичных случаев разбоя, то они всегда строжайше карались. Утверждение же, что евреи не имели возможности навещать в лазаретах раненых родственников, — клевета. В русской армии все солдаты, русские и евреи, подвергаются одинаковому обращению и награждаются в одинаковой мере.
«Наконец, сами евреи признают, насколько постыдны попытки австро‑германских клеветников, стремящихся таким путем провоцировать враждебность нейтральных стран в отношении России. Примером этого признания является еврейский журнал “Новый Восход”, в котором барон Гинцбург, посетивший театр военных действий, констатирует, что совершенно не замечал в армии враждебных чувств по отношению к евреям. Этот же журнал отмечает, что значительные суммы были уделены на оказание помощи пострадавшему еврейскому населению. Журнал передает случаи геройства солдат‑евреев и сообщает, что по приказанию Государя адъютант посетил лазарет петроградской еврейской общины и, поблагодарив от имени Императора солдат за храбрость, вручил Георгиевские кресты троим из находившихся в лазарете четырех солдат».
Евреи на войне. 1915. № 4.
Хроника
Дачный сезон
Как известно, большинство еврейского населения в этом году не выехало на дачи и курорты. Но кое‑кто поехал. Сведения о мытарствах евреев на курортах скудны, но они имеются.
Между прочим, евреям в этом году разрешено было лечиться на Кавказских минеральных водах раньше, чем в предыдущие годы, и комиссия для освидетельствования приезжающих евреев начала функционировать уже в день открытия в Пятигорске — 1 мая. Освидетельствование производится комиссией два раза в неделю: вторник и пятницу.
— В Саратовской губ. евреям запрещено жить в этом году на дачах. Из восьми ходатайств евреев — зубных врачей и дантистов о разрешении в летнее время заниматься практикой на дачных местностях г. Саратова врачебным отделением губ. правления удовлетворено пока одно
Еврейская неделя. 1915. № 2. С. 30–31.
Евреи и курорты
На днях дачевладельцы Теберды обратились к министру внутренних дел с телеграммой о допущении в нынешнем году, с 1 июля по 1 октября, больных евреев для лечения на Теберду. В этой телеграмме дачевладельцы, между прочим, пишут: Допущение евреев на Теберду не только принесет пользу непосредственно нам, дачевладельцам, но также и всем мелким поставщикам провианта, кормящимся около курорта, а также казне, которой удастся в будущем, при сохранении допущения евреев на следующие годы, выгадать на торгах на аренду новых казенных участков более крупные арендные цены, так как торгующиеся будут учитывать это допущение евреев в качестве весьма благоприятного фактора. Что же касается самих евреев, то они ныне поставлены в невозможные условия, так как заграничные климатические станции для них заперты войной, а единственная русская климатическая станция — Теберда заперта для них недопущением.
Война и евреи. 1915. № 13. С. 14–15.
Закрытие журнала «Рассвет»
В понедельник 8 мая в редакцию журнала «Рассвет» явилась полиция и предъявила ордер главного инспектора по делам печати о закрытии журнала. Полиция отобрала разрешение на издание журнала и произвела обыск в помещении редакции. Забран комплект последнего нумера.
Еврейская неделя. 1915. № 4. С. 34.
К закрытию еврейских газет
Как уже сообщалось в газетах, по распоряжению варшавского генерал‑губернатора закрыты на все время войны издающиеся в Варшаве на разговорно‑еврейском языке газ. «Гайнт» и «Момент» и древнееврейская «Гацефира».
На состоявшемся собрании сотрудников закрытых газет и служебного персонала их контор было выяснено, что в связи с закрытием газет лишилось всякого заработка 468 человек, не считая разносчиков. Из этого числа 385 человек содержат семьи.
Ввиду теперешней дороговизны предметов первой необходимости в Варшаве лишившиеся заработка еврейские журналисты решили открыть потребительскую лавку на паях для дешевой продажи пищевых и иных продуктов.
Война и евреи. 1915. № 13. С. 11.
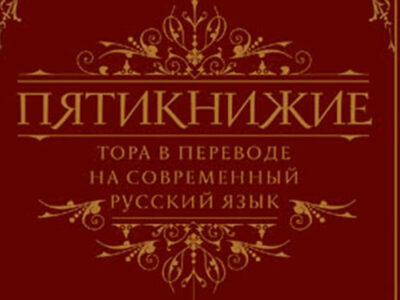
О переводе еврейских источников на русский язык

Наши женщины к Б‑гу ближе