Секс, магия, фанатизм, упадок — и первый роман на иврите
Материал любезно предоставлен Mosaic
В 1819 году Йосеф Перл написал первый роман в истории литературы на иврите. Эта залихватская сатира на хасидское движение оказалась несправедливо забыта.
Ровно 200 лет назад в белорусском городке Копысь была опубликована книга на иврите под названием «Шивхей а‑Бешт» («Хвалы Исраэлю Бааль‑Шем‑Тову»). Бааль‑Шем‑Тов, легендарный основатель хасидизма, умер в 1760 году, больше чем за полвека до появления книги, автор которой, Дов‑Бер из Линиц, был зятем человека, служившего у Бааль‑Шем‑Това секретарем.
«Шивхей а‑Бешт» — сборник рассказов о Бааль‑Шем‑Тове, часть из которых Дов‑Бер слышал от своего тестя, — быстро разошелся во множестве изданий. Книга стала литературной вехой в нескольких смыслах слова. Это была первая записанная биография человека, ранее известного последователям и хулителям только изустно. Она открыла новый жанр ивритской литературы, которому суждена будет огромная популярность и сотни изданий, — хасидский рассказ. Хотя сборник «Шивхей а‑Бешт» составлен по модели более раннего произведения «Хвалы Ари» — опубликованного в 1629 году жития цфатского каббалиста Ицхака Лурии Ашкенази, ранее в литературной прозе на иврите ничего подобного было. Перед нами простой, понятый и живой текст, при этом усеянный грамматическими ошибками, кальками с идиша и идишскими и славянскими словами, ивритского перевода которых Дов‑Бер не знал или не потрудился поискать. Он был шохетом, а не раввином, и раввинистический язык того времени, построенный на раввинистических условностях, чрезвычайно плотный, сильно перемешанный с арамейским и полный учеными аллюзиями на библейские и раввинистические тексты, его не интересовал и, вероятно, был ему непонятен.
Хасидская литература существовала и до книги «Хвалы Бааль‑Шем‑Тову». Но она была, скорее, гомилетической и богословской, а не построенной на анекдотах, и языком ее был язык раввинов. Великая битва, которая разразилась в Восточной Европе в конце XVIII века, битва между хасидами и миснагидами («противниками» на ашкеназском иврите, антихасидскими силами), велась между раввинами. Обе стороны знали и почитали одни и те же тексты и традиции, и каждая сторона ниспровергала оппонента во имя одних и тех же идеалов.
Первыми конфликт развязали миснагиды. Хасидские учения и общины начали распространяться после смерти Бааль‑Шем‑Това, и раввинистический истеблишмент того времени во главе со знаменитым Виленским Гаоном Элияу бен Шломо Залманом Крамером (1720–1797) приложил максимальные усилия к их уничтожению. Хасидский интерес к эмоциям вместо интеллектуального опыта; его пренебрежение к ученой жизни, составлявшей высший идеал раввинистического иудаизма; его уверенность в том, что вера в Б‑га не менее важна, чем соблюдение всего его законов; пантеистические мотивы в учении о Б‑жественном присутствии во всем; неистовство ритуалов и коллективной молитвы с танцами, песнями, подпрыгиванием, выкриками, хлопаньем в ладоши и другими проявлениями энтузиазма; культ цадика — святого раввина, служившего посредником между Б‑гом и обычным евреем, — все это казалось чрезвычайно опасным. Все это угрожало стабильности старого порядка и порождало новый всплеск антиномистских течений, зародившихся в конце XVII века в ходе мессианского движения саббатианцев и достигших высшей точки в вольнодумстве франкистов — постсаббатианской секты, лидер которой, польский еврей Якоб Франк (1726–1791), вместе с последователями обратился в католицизм при жизни Бааль‑Шем‑Това.
Но по мере укрепления хасидского движения конфликт разрастался. К концу XVIII столетия оба лагеря находились в состоянии открытой войны. Сожжение книг, отлучение от общины, экономический бойкот, физическое насилие и преследование хасидского и миснагидского меньшинства миснагиским и хасидским большинством стали обычным делом. Обе партии не стеснялись применять оружие, которое всегда считалось запрещенным, даже в самых тяжелых внутриеврейских разногласиях жаловаться на противников нееврейским властям. В 1798 и в 1800 годах прошения миснагидов, поданные в российские правительственные органы, привели к аресту отца хабадской ветви хасидизма Шнеура‑Залмана из Ляд (1745–1812) по обвинениям в мятеже и незаконных денежных операциях. (В обоих случаях после допроса его отпустили.) В 1799 году хасиды обвинили миснагидских общинных лидеров Вильны в хищении общинной казны — и вновь последовали задержания и полицейские расследования.
В то же время успех повлиял на характер хасидизма. Хотя некоторые цадики, например внук Бааль‑Шем‑Това Нахман из Брацлава (1772–1810), жили скромно и даже бедно и далеки были от мысли о любой власти, кроме духовной, другие воспользовались своей популярностью, чтобы накопить немалое состояние. Таким был другой внук Бааль‑Шем‑Това Барух из Меджибожа (1753–1811), живший в царской роскоши, которую обеспечивал нескончаемый поток подарков и приношений от учеников. Эти приношения, которые назывались «пидьонот» («выкупами»), считались проявлением благочестия, гарантировавшим дарителю благословение цадика. Религиозное обоснование для этой практики дал еще Элимелех из Лейзенска (1717–1787), хасидский раввин первого поколения, который указывал на религиозный долг верующих поддерживать цадика достаточно щедро, чтобы тот мог сосредоточиться на своей сакральной миссии, отрешившись от всех экономических тягот.
К моменту публикации «Шивхей а‑Бешт» в хасидизме выработался собственный строгий порядок. Наиболее сильны его позиции были на юге Восточной Европы, в австрийской Галиции и российской Волыни и Подолии, а также на всей территории Речи Посполитой до ее раздела соседями в конце XVIII века. Слабее всего — на севере, особенно в Литве, которая оставалась преимущественно миснагидской. С политической точки зрения хасидизм подчинялся власти, и в частности власти Габсбургов. С религиозной он делился на множество «дворов», во главе которых стояли цадики. Некоторые цадики поддерживали между собой дружеские отношения, другие, подобно Шнеуру‑Залману из Ляд и Баруху из Меджибожа, конфликтовали по вопросам принципов, влияния и территории.
И у всех у них был общий враг, не только в лице миснагидов, но и в лице нового движения, которое разделяло некоторые ценности миснагидов, но противостояло их консервативным раввинам, стремительно превращаясь в третью силу. Это была Хаскала, еврейское Просвещение — движение за интеллектуальную и социальную модернизацию, которое пришло с Запада, особенно из Берлина Мозеса Мендельсона, и к началу 1800‑х годов распространилось и в Восточной Европе, прежде всего в Галиции.
II
Одним из крупнейших представителей Хаскалы в Галиции был Йосеф Перл (1773–1839).
Педагог и литератор — в числе прочего, он перевел на иврит «Тома Джонса» Генри Филдинга с немецкого переложения английского оригинала, — Перл был первым романистом в ивритской литературе, хотя этот титул у него несправедливо оспаривали. Несмотря на то что его прозе никогда не уделяли того внимания, которого она заслуживает, она занимает ведущие позиции в новой ивритской словесности. В учебниках о ней принято упоминать лишь вскользь, и настоящего исследования она удостоилась только через 200 лет. Израильский ученый Йонатан Меир посвятил 600 страниц изучению главного романа Перла «Мегале тмирин» («Раскрывающий тайны»). Новаторское исследование Меира, опубликованное в трех томах в 2013 году, содержит текст романа на иврите с комментариями, подробный анализ его источников, концепции, композиции, скрытых аллюзий и реакции на него; обширный материал по сравнению ивритского текста романа с более поздней авторской версией на идише; подробную библиографию и большую статью Дана Мирона — патриарха израильской литературной критики. Это выдающееся достижение, и во многом благодаря нему Перл наконец занял достойное место в пантеоне ивритской литературы.

Перл родился и жил в Тернополе, средних размеров городке, расположенном к юго‑востоку от главного города Галиции Львова, носившем также немецкое название Лемберг. Лемберг, расположенный далеко от Вены и близко к границе с Россией, стал первым центром галицийской Хаскалы, в том числе благодаря такому решительному и резкому человеку, как Нафтали Герц Гомберг. Представитель раннего периода Хаскалы, Гомберг в 1787 году был назначен австрийским правительством надзирать за немецкоязычными еврейскими школами в Галиции.
Гомберг обосновался в Лемберге и неустанно занимался германизацией хасидского и говорившего на идише еврейского населения региона — этой цели он стремился добиться насильственным введением обязательной системы полусветского образования и рядом других реформ, в том числе учреждением всеобщей воинской повинности для евреев и запретом на ношение традиционной еврейской одежды. Задолго до начала движения за реформированный иудаизм в Германии, чья первая синагога открылась в 1818 году, он призывал к существенному упрощению еврейской молитвы и либерализации раввинистического права. Хотя в долгосрочной перспективе его начинания не имели большого успеха (система еврейских школ перестала действовать в 1806 году в связи с сопротивлением евреев и низким набором), Гомберг навлек на себя проклятия не только хасидов, ненавидевших его так же сильно, как он их, но и многих маскилов, представителей Хаскалы, которые возражали против насильственных методов, хотя и симпатизировали его целям.

Перл, возродивший еврейскую школу в 1813 году в Тернополе, одновременно был похож на Гомберга и отличался от него. В юности его привлекал хасидизм, но затем он решительно отверг его и обратился к Хаскале. Постепенно Перл пришел к выводу, что хасидизм представляет собой основное препятствие к модернизации галицийского еврейства, и соглашался с Гомбергом, что к кампании против него необходимо привлечь австрийское правительство. Но Перл на всю жизнь остался ортодоксальным евреем‑миснагидом и, в отличие от Гомберга, никогда не выступал против раввинистической традиции, в которой прекрасно ориентировался. Будучи просветителем, он верил в сочетание ортодоксии с представлением о гражданском долге и открытостью к европейской культуре и науке. Как австрийский гражданин он выступал за антихасидское законодательство, и в 1816 году написал на эту тему книгу на немецком языке под названием «Über das Wesen der Sekte Chassidim» («О природе секты хасидов»). Книга, которая должна была обличать обскурантизм, фанатизм, нравственный и финансовый упадок, царившие в хасидской жизни, к большому разочарованию Перла, была запрещена австрийским цензором, побоявшимся возможной яростной реакции хасидов. Не сломленный неудачей, Перл решил воплотить разочарование в романе — и для литературы на иврите ничего лучше придумать было нельзя.
III
Роман Перла был опубликован в Вене в 1819 году. На титульном листе значилось:
Книга Раскрывающего тайны именуется таким образом, потому что она открывает то, что было ранее скрыто от всех глаз, по причине, каковая станет ясна читателю во вступлении, где она пространно разъясняется.
Далее говорилось:
К сему прилагается разъяснение слов, каковые используют наши братья‑евреи в Польше и каковые можно встретить в этой книге и в других книгах цадиков нашего времени, с тем чтобы сыны нашего народа, живущие в иных местах, могли бы понять священные книги, написанные нашими цадиками в Польше, — и да найдет читатель удовольствие от этого.
Под «Польшей» подразумевается территория Речи Посполитой до разделов, где проживали почти все евреи, говорившие на идише. Однако дополнение было не только призвано сообщить неидишеязычным читателям о наличии глоссария. Оно должно было дать понять, что автор книги, не упомянутый на титульной странице, — хасид, потому что кто еще будет говорить о «святых книгах, написанных нашими цадиками в Польше»? Это предположение подтверждается на следующей странице, где автор благодарит различных цадиков за то, что они вдохновили его на создание «Раскрывающего тайны». Первым из них был сам Бааль‑Шем‑Тов, «источник и проводник Б‑жественной мудрости, корона и слава Израиля». Здесь наконец мы видим и имя автора. Это «достославный хасид Овадья бен Петахья, обретающийся среди цадиков и великих людей нашего времени».
Далее следует «Обращение к читателям», в котором Овадья сообщает, что
всякий раз, когда в этой книге упоминается раввин, истинный раввин, цадик, истинный цадик, цадик нашего времени, совершенный цадик, великий муж, великий муж нашего времени… и тому подобное, я разумею под этими словами только цадиков, служащих Б‑гу, да будет Он благословен, в восторге и экстазе, а не оставшихся в нашей стране книгочеев, над которыми Свет еще, увы, не воссиял.
Обозначив, что ни один миснагид не может удостоиться таких похвал, Овадья переходит к обещанному вступлению, в котором объясняет, как была написана эта книга.
Однажды ночью, пишет Овадья, он ехал по одинокой дороге и, выйдя из кибитки, чтобы осмотреться, потерялся и часами блуждал по лесу, пока наконец не встретил старика — древнего хранителя тайных сочинений таинственного рабби Адама, упомянутого в «Хвалах Бааль‑Шем‑Тову» в качестве источника эзотерического знания Бааль‑Шем‑Това. Старик дал Овадье лист из этих сочинений и научил его становиться невидимым — для этого надо было положить листок в карман. Вооруженный волшебным предметом, хасид решил незаметно посетить дома знаменитых цадиков, чтобы понять, какие тайные достоинства скрывает их скромность. В процессе ему удалось завладеть несколькими письмами, которые он счел нужным скопировать. Теперь, говорит Овадья, эти письма, снабженные примечаниями с объяснениями, представлены публике.
Итак, читатель, еще не дойдя до основной части романа Перла, уже знает, что перед ним роман эпистолярный, как и большинство европейских романов того времени, и роман хасидский. Если читатель — маскил, он поймет, что хасидизм — лишь уловка, потому что никто, кроме доверчивых хасидов, не поверит, что еврей с библейским именем, звучащим так не по‑восточноевропейски и характерным для писателей‑маскилов, может становиться невидимым благодаря сказочной встрече. Так что с самого начала становится ясно, что «Раскрывающий тайны» — это сатира, хотя, судя по источникам того времени, немало хасидов, которые брались за книгу, были настолько легковерны, что хотя бы первые несколько страниц не сомневались в том, что ее автор — настоящий хасид. Большего комплимента Перл не мог и пожелать.
IV
Первое из 151 письма «Раскрывающего тайны» адресовано «От реб Зелига Летичевера из Золина реб Зейнвлу Верхивкеру в Крипин». Приведу цитату из него в моем переводе:
Вчера я несколько времени провел у нашего святого ребе после вечерней молитвы и услышал от него несколько слов. Слаще меда были они, и я рад, что он благополучен и так же близок к Б‑гу, как и всегда. Хвала Г‑споду, я почерпнул из его историй и речений больше, чем от любого цадика. Я бы мог целыми днями слушать его святые слова, не прерываясь на еду и питье, но ему хотелось закурить и сходить в уборную, и я принес его трубку, но прежде чем я успел зажечь ее, кто‑то другой уже принес уголек. Уразумев, что он не хотел бы, чтобы его сопровождали в уборную, я направился домой в лучезарном настроении и благодарил Б‑га за то, что Тот допустил меня в ближний круг святого ребе и позволил слушать такие удивительные вещи. Только я пришел домой, как жена вручила мне письмо, принесенное кем‑то из твоего города. Это еще больше улучшило настроение моего духа, потому как узнал я твой почерк, но когда я прочитал новость об этой Книжонке, обращенной против нас и против всех истинных цадиков и посланной из Галиции правителю твоего города, руки мои затряслись. Ты говоришь, что в ней полно насмешек и вымыслов об истинных ребе, и я не поверил бы никому, кроме тебя… Поверь мне, это повергло бы меня в уныние, если бы я не был настроен столь благодушно. После прочтения письма я выпил, чтобы отогнать прочь дурные мысли, но нам все же надлежит подумать, что делать с этой Книгой. По двум причинам я опасаюсь приносить эту весть нашему святому ребе. Во‑первых, это, не дай Б‑г, может огорчить его. Конечно, он уже, верно, слышал о ней в горних мирах, но он может расстроиться, если я скажу ему об этом в нашем дольнем мире. А во‑вторых, если он захочет поквитаться с автором этой Книги, Князь Торы сожжет того заживо и лишит нас удовольствия сделать это самим или предать его суду.
Забудем на минуту о речи Зелига Летичивера. Из его письма следует целый ряд важных для нас фактов: 1) он и Зейнвл Верхивкер — последователи одного и того же хасидского ребе, хотя живут в разных городах; 2) ребе живет в Золине, как и Зелиг, который (как мы скоро узнаем) занимает пост его секретаря; 3) Крипин, где живет Зейнвл, — это главный город провинции, в котором сидит губернатор; 4) Золин и Крипин находятся не в Галиции, а это значит, что они должны быть по ту сторону границы — в России; 5) Зейнвл пишет Зелигу, чтобы сообщить ему о некоей вызывающей беспокойство антихасидской Книге, опубликованной в Галиции и находящейся в руках губернатора; 6) эта Книга, видимо, будет еще неоднократно появляться в последующих событиях.
И правда, как вы уже, возможно, догадались «Книга» (которую Перл везде называет «а‑Бух», используя ивритский артикль «а» и идишское слово, обозначающее книгу светскую, а значит, явно подозрительную с хасидской точки зрения) — это не что иное, как сочинение «О природе секты хасидов». Реальное произведение Перла оказывается в центре вымышленного сюжета его романа. Сюжет запутанный и напряженный, в нем множество поворотов, персонажей, пророчеств и комических неурядиц, в переписке участвует огромное количество корреспондентов, и даже очень внимательный читатель может потерять порой нить повествования. Даже простой пересказ содержания «Раскрывающего тайны» затянется на множество страниц, так что мне придется довольствоваться пересказом пересказа.
Зелиг и Зейнвл, ничего не говоря Золинскому ребе, решают завладеть Книгой, чтобы узнать, что в ней написано, понять, насколько она опасна, раскрыть личность автора, наказать его и, если понадобится, уничтожить все экземпляры, скупив их и предав огню. Первоначальный план состоит в том, чтобы Книгу похитила служащая у губернатора еврейка Фрейда; Зейнвл ошибочно полагает, что она еще и любовница губернатора и вхожа во все уголки его дома. Но хотя она свою часть плана выполняет, все идет наперекосяк, потому что Книгу по ошибке возвращают еще до того, как заговорщикам удалось ее прочитать, и губернатор, заметив ее временное исчезновение, прячет ее под замок.
Зелиг и Зейнвл разрабатывают новый план: они пишут поддельное письмо губернатору от его наместника, живущего в Золине, с просьбой одолжить Книгу ему, и отправляют его с хасидом, молодым учителем древнееврейского языка, в расчете, что губернатор сразу отдаст тому Книгу. Но губернатор решает лично вручить Книгу наместнику; при встрече обман раскрывается, и учителю, которого теперь разыскивают по обвинению в подлоге, приходится скрываться.
Дела идут все хуже и хуже. Губернатор читает Книгу, попадает под ее влияние и начинает проявлять враждебность к Золинскому ребе и его хасидам. Здесь у него есть союзник, миснагид по имени Мордехай Гольд, — успешный делец, недавно обосновавшийся в провинции. Гольд любит повеселиться и разыгрывает Зейнвла, спрятавшись в дупле и притворившись чертом, которого посадил туда Бааль‑Шем‑Тов. Доверчивый Зейнвл рассказывает всем о своем удивительном приключении, и когда Гольд открывает правду, Зейнвл становится объектом насмешек. В отместку Зейнвл и Зелиг пытаются обвинить Гольда в беременности юной христианки, которую они подкупили, чтобы она назвала Гольда отцом ребенка. (На самом деле у нее интрижка с двумя золинскими хасидами.) Когда и этот обман оказывается раскрыт, девушке приходится бежать в Галицию в карете Золинского ребе.
Тем временем Фрейда тоже беременна. Хотя Зейнвл и Зелиг предполагают, что она беременна от губернатора, и решают его шантажировать, настоящий виновник — непутевый сын Золинского ребе Гирцли. Если правда выйдет наружу, под угрозой окажется его помолвка с богатой невестой из румынского города Галац.
Обо всем этом мы узнаем из писем, которыми обмениваются Зейнвл и Зелиг. Они перемежаются перепиской двух других пар из двух других хасидских дворов. В одной из них описывается ребе из Аклю и его борьба против видного миснагида Мойше Фишла; в другой — ребе из Дишполя — соперник Золинского ребе. Дишпольский и Золинский ребе борются за место раввина в городе Ковен, и каждый двор выдвигает своего кандидата. Дишпольский ребе предлагает неученого сына богача, который готов хорошо заплатить за услугу, а Золинский — выдающегося ученого и раввина, который притворяется золинским хасидом, чтобы получить место, а на самом деле он непримиримый миснагид. На фоне этого оба двора отчаянно интригуют, тайный миснагид, имитирующий преданность цадику, которого он презирает, ведет двойную жизнь; Дишпольский ребе пытается сорвать помолвку Гирцли, чтобы женить на богатой невесте из Галаца собственного сына; Дишпольский и Золинский ребе ведут махинации с благотворительностью, из которой они тайно черпают средства для собственных дворов.
В конце концов наступает всеобщий крах. Губернатор и Мордехай Гольд при поддержке ученого (который добился места ковенского раввина и теперь может перестать скрываться) начинают в провинции антихасидскую кампанию, которая приводит к массовому оттоку евреев из хасидских дворов. Учителя иврита ловят, и он сознается в обмане. Христианку задерживают в Галиции и отправляют на суд в Россию. Фрейда умирает от неумело сделанного аборта, на который ее вынудили люди Золинского ребе, узнавшие, кто отец ребенка. Помолвка Гирцли расторгнута. Зелиг Летичевер тоже умирает, и золинские хасиды уверены, что он пал трагической жертвой Князя Торы, который неправильно истолковал мистические наставления ребе и убил его по ошибке вместо автора Книги. Золинский ребе, потрясенный инцидентом, умирает от сердечного принципа с трубкой во рту в уборной, куда он отправился после обильных возлияний и плясок с хасидами. Мойше Фишл побеждает аклюнских хасидов. У Дишпольского ребе находят старинное серебро, отданное ему в качестве выкупа новым последователем, молодым хасидом, укравшим это серебро у отца‑миснагида. Страшась ареста по обвинению в сознательном укрывательстве краденого, Дишпольский ребе вместе со своим двором бежит в Галац, где к ним присоединяется Зейнвл Верхивкер, чей дом тем временем переходит за долги к Мордехаю Гольду. Оттуда вместе с беглыми золинскими хасидами все они отправляются в Палестину.
Последнее письмо «Раскрывающего тайны» приходит из Стамбула. Золинский адресат узнает из него, что группа беженцев страдает от нужды в Стамбуле и срочно просит прислать денег. В конце говорится:
И еще об одном я позабыл написать. Мне сообщили, что Мордехай Гольд, будь проклята его душа, подарил мой дом моей сестре и детям и усыновил моего старшего сына, ведь своих‑то у него нет, и я знаю, что мерзкий негодяй поступил так не по доброте душевной, а потому что хочет превратить моего сына в вольнодумца, как он сам, да не допустит этого Г‑сподь. И я прошу тебя поговорить с моей сестрой и сообщить ей, что я не дам согласия, если только он не заплатит за мою жену, потому что заболела по пути в Стамбул, чтобы я не остался ни с чем и смог бы молиться в Святой земле за своего сына, чтобы он не перенял гнусных обычаев этих людей. Зейнвл.
И все это из‑за Книги. Если бы она не была написана, она не дошла бы до губернатора; если бы она не попала к губернатору, Зейнвл и Зелиг не строили бы планов ее выкрасть; если бы они не вознамерились завладеть ей, большинство событий, приведших к краху всего хасидского двора, и не произошли бы.
Так добилось воображаемого триумфа сочинение Перла «Über das Wesen der Sekte Chassidim», не имевшее успеха в реальности.
V
Золото и жемчуг — драгоценности, так что можно предположить, что Мордехай Гольд — это идеализированный автопортрет Йосефа Перла. Спокойный, честный, с благородной душой, но любящий посмеяться над тем, что заслуживает смеха, — он настоящий еврейский джентльмен, в котором воплотились все черты идеального миснагида. То, что хасиды в романе Перла не хотят признать ни одного достоинства Гольда и все время приписывают ему дурные намерения, свидетельствует об их собственной моральной испорченности.
Если Гольд — это литературный образ Перла, то кто же стоит за другими персонажами «Раскрывающего тайны»? Предпринимались попытки идентифицировать некоторых из них, предполагая, что Перл использовал силлабический шифр и гематрию — древний способ раскрывать значение ивритского слова по числовому значению составляющих его букв. Например, Золин — это Лиозно, белорусское местечко, где располагался центр Хабада до переезда в Ляды; а числовое значение названия Дишполь, состоящего из букв «далет», «йуд», «шин», «пей», «алеф», «ламед», равно 425 — так же как и Меджибожа («мем», «аин», «заин», «бет», «вав», «шин»).
Но, как отмечает в своем трехтомнике Йонатан Меир, не нужно придавать таким вещам слишком большого значения. Хотя соперничество между Золинским и Дишпольским ребе может напоминать противоборство между Шнеуром‑Залманом из Ляд и Барухом из Меджибожа, персонажи не полностью слеплены с прототипов, и у Золинского раввина и его приближенных нет ни следа той интеллектуальности и богословской смелости, которые были характерны для исторического Шнеура‑Залмана и Хабада. Все хасиды в «Раскрывающем тайны» практически одинаковые: корыстные, коварные и невежественные, без единой привлекательной черты. Если представлять себе хасидизм только по «Раскрывающему тайны», ни за что невозможно понять, каким революционным было это движение, поразившее еврейское население Восточной Европы силой веры, динамизмом и признанием ценности обычного еврея. Именно обычный еврей чувствовал пренебрежение к себе со стороны легалистов‑миснагидов, которых интересовали только тексты, и страдал от бесправия и классовой структуры восточноевропейского еврейского общества. Перед нами одно большое мошенничество.
Перл понимал, что его роман можно обвинить в грубых искажениях, и это обвинение опровергают многочисленные примечания, добавленные «Овадьей бен Петахьей». Они почти полностью состоят из ссылок на знаменитые хасидские сочинения и призваны продемонстрировать, что каждое верование и каждая практика, описанные в «Раскрывающем тайны», какими бы бесчестными и причудливыми они ни казались, отражают содержание канонических хасидских произведений. Например, когда Зелиг Летичевер в первом письме Зейнвлу Верхивкеру выражает тревогу, как бы Золинский ребе не отомстил автору Книги, заставив «Князя Торы сжечь его заживо», Овадья добавляет примечание: «См. Шивхей а‑Бешт, с. 2в». Меир приводит соответствующий фрагмент в критическом аппарате к своему изданию:
Однажды сын мудреца попросил Бешта призвать Князя Торы, чтобы тот объяснил им какую‑то вещь. Отказался Бешт и сказал, что если случится — упаси Б‑г! — оплошка в умысле, то тогда можно — упаси Б‑г! — оказаться в опасности… Но настаивал тот днем и ночью, до тех пор пока возражать стало невмоготу, и начали они готовиться: постились от субботы до субботы, окунались в живые воды, как подобает, а на исходе святой субботы произнесли известные заклятия. И вдруг закричал Бешт: «Ой‑ой‑ой! Ошиблись мы, вызвали Князя огня, непременно спалит он весь город! Посему ты, которого все почитают за великого праведника, поспеши к своему тестю и ко всем горожанам, пусть спасают души свои». И так оно и было .
Тут интересно, что, хотя Овадья обращается к своим собратьям‑хасидам, Перл использует его, чтобы обратиться к своим собратьям‑миснагидам. По мнению Овадьи, примечание говорит читателю: «Видите? Ничего нелепого в страхах Зелига Летичевера нет, и книга “Шивхей а‑Бешт” доказывает, что они вполне обоснованы». А Перл вкладывает в него совсем другой смысл: «Не верьте ни на минуту, что я что‑то придумываю, потому что странные идеи, которые высказывает Зелиг Летичевер, с самого начала были неотъемлемой частью хасидизма». Примечания Овадьи подтверждают, что худшие проявления хасидизма легитимизированы самыми почитаемыми его представителями.
Хотя все цитаты из хасидских источников скрупулезно точны и Перл прекрасно в этих источниках разбирался, он знал, что мало кто из читателей даст себе труд их проверить, и в коротком продолжении «Раскрывающего тайны», которое он назвал «Боген цадик» («Испытание праведника»), он позволил себе развлечься. В «Боген цадик» несколько хасидов спорят о «Раскрывающем тайны», и двое из них, Авром и Мордехай, говорят следующее:
Авром. Слушай! Говорят, в этой книге были какие‑то примечания. Так скажи мне, веришь ли ты, что все, что он туда понапихал, действительно содержится в наших книгах? Думаешь, мы бы доверяли так нашим книгам, ежели бы там было что‑то подобное? Да ни за что на свете!
Мордехай. А если это правда есть в наших книгах? Кто знает, действительно ли цадики имели в виду ровно то, что говорит этот безбожник в своей безбожной книге? Они могли думать о тысяче разных вещей, а этот проходимец переписывает и думает, что все понял.
В «Испытании праведника» все говорят о «Раскрывающем тайны»; и миснагиды, и хасиды читают и обсуждают эту книгу. Тут, как и в сокрушающем воздействии Книги на дишпольских и золинских хасидов, перед нами литературный прием и воображаемое исполнение желаний одновременно. На самом деле, отмечает Йонатан Меир, было отпечатано и распродано очень немного экземпляров «Раскрывающего тайны». Но лихая смесь фактов и вымысла, еще более сложная в «Испытании праведника», делает произведение Перла уникальным. Сегодня оно кажется нам почти постмодернистским. Аналогичные случаи внутренних отсылок, конечно, встречались в европейской литературе и до Перла. Самый известный пример — «Дон Кихот», в главе, где два персонажа обсуждают роман Сервантеса «Галатея». Но там это мимолетная шутка, а у Перла — основной сюжетный ход. Именно потому, что он писал в несбыточной надежде изменить реальность, ему так легко было пересекать грань между жизнью и вымыслом.
VI
Но литературный прием остается литературным приемом. Принимая во внимание упрощенный черно‑белый контраст между нечестивыми хасидами и благородными миснагидами в «Раскрывающем тайны», контраст, который исключает любые психологические тонкости, можно задаться вопросом, в чем же состоит секрет притягательности романа. Ответ очевиден: в красоте языка.
Этот язык называли пародией на прозу «Шивхей а‑Бешт» и других хасидских рассказов, например мистических сказок Нахмана Брацлавского, также опубликованных в 1815 году. Хасиды Перла говорят на преувеличенно книжном иврите: их грамматика еще хуже, чем в этих книгах, а идишизмы — еще грубее. Более того, они гордятся этим. Во введении к «Раскрывающему тайны» Овадья пишет:
Я переписал эти письма тем же самым языком, на каком они были написаны… хотя я, к величайшему сожалению, не раз видел, как зубоскалы нашего времени издеваются над верующими, говоря, будто те не умеют правильно писать на святом языке и обращаются с ним, как невежды… Но что мне все их зубоскальство? Пусть насмехаются те, кто лишь притворяется евреем. Я же буду писать на языке цадиков и истинно верующих, подобном языку «Восхвалений Бааль‑Шем‑Тову» и святых книг рабби Нахмана, особенно его святых сказок… Ведь теперь каждый собственными глазами видит, как весь мир, даже те, кто еще не присоединился к истинно верующим, привыкает писать на простом языке наших цадиков, распространившемся теперь, с Б‑жьей помощью, повсюду. И нынче, когда кто‑нибудь из нашего народа пишет на наречии, которое они именуют чистым древнееврейским языком, всякому понятно, что он вольнодумец, и я назову его вольнодумцем.
Благодаря искажениям и вольностям в отношении «чистого древнееврейского языка» стиль «Раскрывающего тайны» стал глотком свежего воздуха для читателя маскильской прозы XIX века. В нем была естественность и непосредственность, которой не найти больше нигде. Например, в романе Авраама Мапу 1869 года «Ханжа», где действие разворачивается в Восточной Европе между 1857 и 1869 годами, есть язвительное описание богатого и лицемерного миснагида по имени Гааль (редкое библейское имя, звучащее еще хуже, чем «Овадья бен Петахья»), которое напоминает заключительную тираду Зейнвла Верхивкера о Мордехае Гольде. Гааля поносит молодой маскил Ахитув (тоже имя очень причудливое):
Таков Гааль. Сердце у него черное и рождающее крайнее отвращение, ибо он душу, самую душу свою продаст за деньги, а все свои деньги и все состояние он отдаст за почет. Когда его руки, запятнанные нечестием, раздают подаяние беднякам, это всегда напоказ, чтобы все видели и воздали ему почести с должными церемониями и пышностью — о, сколь он праведен во всех путях своих и благочестив во всех делах своих.
Эта риторика не лишена элегантности, и неоклассическая стилизация Мапу под постбиблейский и библейский иврит (последний пассаж цитаты взят напрямую из псалмов) создала стандарт для ивритской прозы, просуществовавший до конца XIX века, а в некоторых случаях и дольше. Его популярность привела к тому, что многие критики, осуждавшие «Раскрывающего тайны» за профанный язык, называли первым романом на иврите вышедшую в 1853 году «Сионскую любовь» Авраама Мапу. Хотя это Перлу бы, разумеется, не понравилось, он бы не мог не согласиться с тем, что хасидский иврит годится только для сатиры. Но насколько реплика Зейнвла «мерзкий негодяй поступил так не по доброте душевной» живее, чем утонченное презрение Ахитува! Именно благодаря сильному налету идиша язык «Раскрывающего тайны» гораздо лучше создает ощущение живой речи, чем все написанное на иврите от талмудической эпохи до возрождения разговорного иврита в ХХ веке — за полтора тысячелетия, когда он был вторым языком каждого образованного еврея и не был родным языком ни у кого.
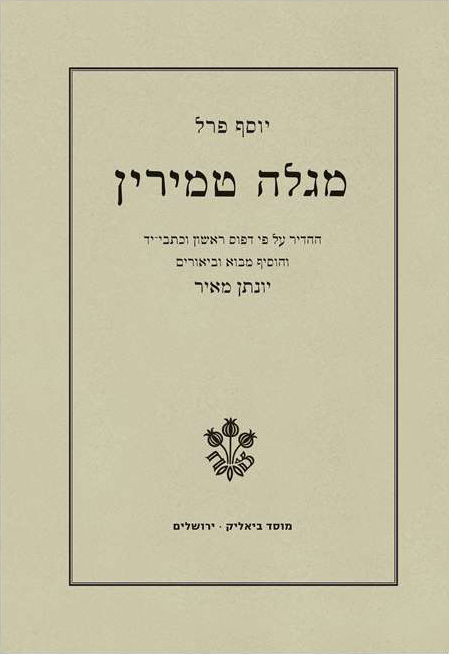
Переводить «Раскрывающего тайны» тяжело. Такую попытку предпринял однажды Дов Тейлор, и его перевод на английский опубликован в 1997 году. В предисловии Тейлор спрашивает: «Существует ли модель, позволяющая передать на английском языке то, как выражаются хасиды Перла на иврите?» Его ответ: «Сегодня в Нью‑Йорке, Лондоне, Иерусалиме и в других местах можно услышать, как говорят по‑английски евреи, чьим родным языком был идиш и польский. Именно они представляют собой лингвистическую модель для воссоздания ивритоязычных персонажей Перла на английском языке, и я перед ними в долгу». Но при всей изобретательности Тейлора, использующего английский еврейских эмигрантов, по некоторым причинам этот опыт не вполне удачен — прежде всего потому, что аналогия, которую он создает, при всей ее привлекательности, не соответствует действительности. Хасиды Перла (которые в любом случае, скорее, знали украинский язык, а не польский) не были эмигрантами. Они уроженцы своей страны, и хотя в их иврите чувствуется тяжелый идишский акцент, добавление идиша в английский перевод сильно искажает их социальные и лингвистические отношения с окружающей средой.
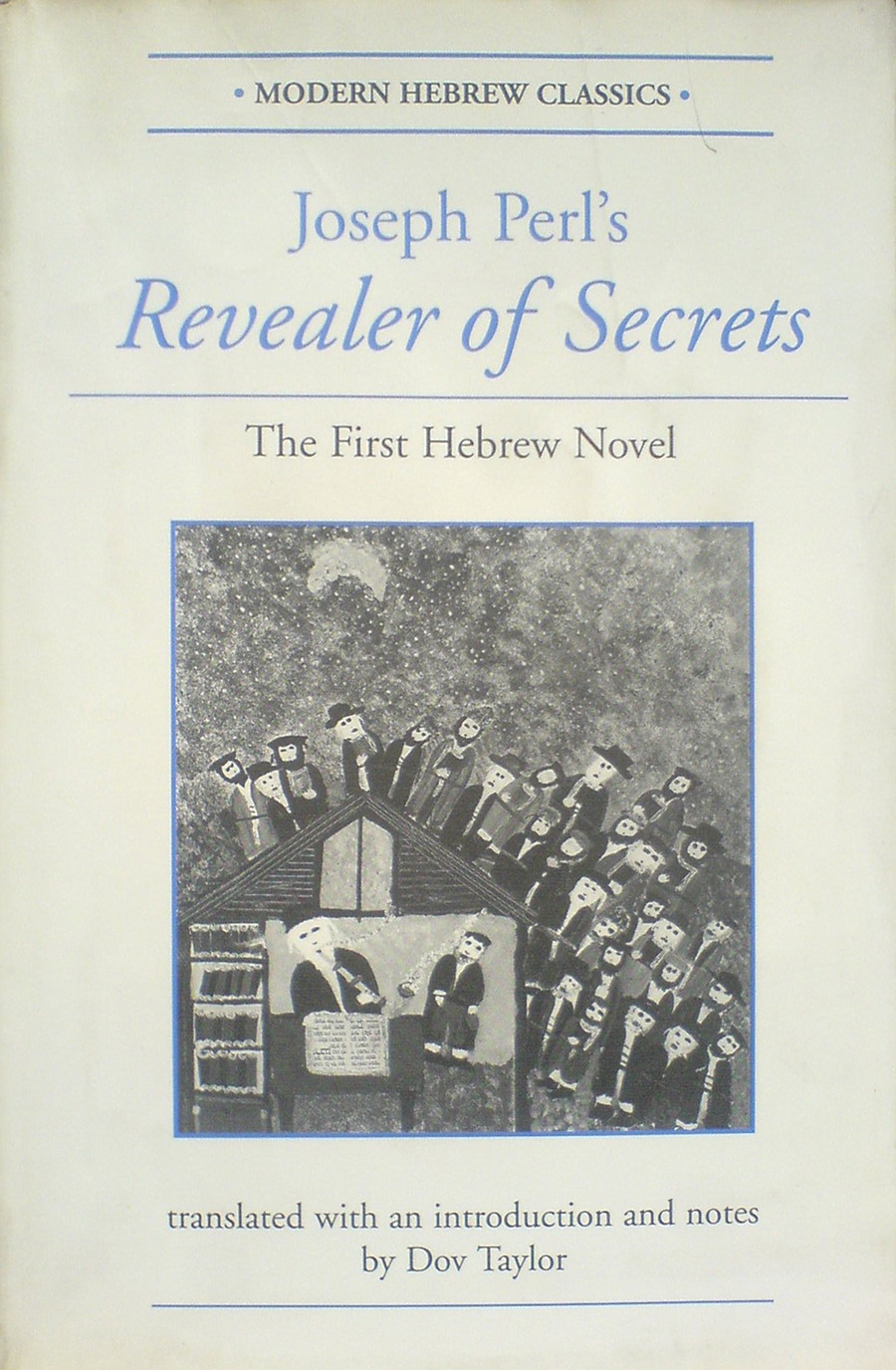
Переводя цитаты из «Раскрывающего тайны» для этого очерка, я придерживался другого подхода, выбрав английский язык XVIII века в том виде, как могли писать англоязычные люди, недостаточно образованные или не слишком интересующиеся формальными правилами синтаксиса и пунктуации . (Правда, по большей части они у меня пишут правильно, потому что мало ошибок были бы признаком произвола, а много — утомляли бы читателя.) Я надеюсь, что мне удалось частично передать не только уверенность, которую ощущают в своем мире хасиды Перла, но и их жульничество, упрямство и даже шарм. Читатель в конце концов привязывается к ним, и в этом кроется истинный источник воздействия «Раскрывающего тайны» — это следует принимать во внимание при любом обсуждении романа.
VII
«Мильтон был настоящим поэтом, а стало быть, принадлежал к стану Дьявола, хоть и сам не сознавал этого» , сказал Уильям Блейк о «Потерянном рае», и это, пожалуй, самая проницательная мысль в литературной критике. Блейк, конечно, имел в виду, что, поскольку Сатана — главный злодей в поэме Мильтона, Мильтон бессознательно настолько идентифицировал себя с ним, что сделал его самым интересным и запоминающимся персонажем. Мы еще долго помним его, когда Адам, Ева, Б‑г, Иисус и многочисленные ангелы и архангелы «Потерянного рая» уже давно забыты.
Что‑то в этом роде можно сказать и о «Раскрывающем тайны». Хотя Перл хотел изобразить Зелига Летичевера и Зейнвла Верхивкера невежественными и порочными образцами глупости хасидизма, в итоге они затмили собой все. Мы смеемся над их безрассудством и поражаемся их доверчивости, не одобряем их злодейств и бесконечно наслаждаемся ими. Раскованная живость речи героев оттеняет бесстыдную энергию поступков.
В статье, вошедшей в критическое трехтомное издание «Раскрывающего тайны», Дан Мирон обращает внимание именно на этот момент. «Осознанная или неосознанная идентификация» Перла с языком его романа, пишет Мирон, «явно указывает нам на то, что он осознанно или неосознанно идентифицировал себя с миром, в котором родился этот язык». Хотя Перл был рациональным представителем Просвещения и считал хасидизм национальным бесчестьем, его инстинктивно привлекали
стремление к радости, благодарности, экзальтированному эмоциональному и физическому опыту. [Хасиды Перла] нарушают все возможные правила не потому, что их манят деньги, власть или другие материальные блага (хотя и это тоже), а в силу эротической связи с бытием, в силу желания отбросить все ограничения.
Но, конечно, не это несдерживаемое жизнелюбие заставляет нас сопереживать Зелигу, Зейнвлу и им подобным. Хотя оба они выступают соучастниками в чужих сексуальных похождениях, ни один из них сам по себе не сексуален; и при всей их любви хорошо поесть и выпить, они не обжоры и не пьяницы; они вовсе не такие раблезианские плотоугодники, как предполагает Мирон.
Больше всего привлекает в них, скорее, чистая энергетика. Они неутомимы. Ничто не остановит и не обескуражит их. Их не останавливают никакие препятствия, они не признают никаких поражений, у них всегда готов новый план — и у них всегда отличное настроение. Они не ропщут и не ноют; они никогда не жалуются; они слишком заняты поисками следующей возможности. Идентифицируя себя с ними, мы видим ту часть себя самих, которая, несмотря на все трудности, продолжает верить, что всегда можно выкрутиться.
Присущий хасидизму оптимизм привлекал в нем евреев Восточной Европы, у которых объективно было очень мало поводов для оптимизма. Миснагиды обычно критически взирали на человеческий характер; жизнь для них была испытанием, в котором единственная надежда на спасение кроется в набожности и скрупулезном следовании ритуалам. Хаскала же рассуждала в терминах постепенных социально‑экономических изменений, которые могут занять десятилетия. Хасидизм проповедовал радость и оптимизм здесь и сейчас. Он наполнял своих последователей силой и желанием победить.
Именно этому, я думаю, тайно завидовал Перл, миснагид и маскил, знакомый с хасидизмом изнутри. Он думал, что хасидизм — это чепуха; он чувствовал его эмоциональную силу и жизнерадостность. Более того, он знал, что без такой силы, которая сможет затронуть еврейские массы, Хаскале не победить. «Раскрывающий тайны» поставил его и самых проницательных из его читателей перед лицом этой дилеммы.
VIII
«Испытание праведника», написанное, как и «Раскрывающий тайны», в эпистолярной форме, Перл опубликовал спустя двадцать лет — в 1838 году, за год до смерти. За это время события развивались не так, как Перлу хотелось бы. Хотя Хаскала добилась в Галиции определенных успехов, она все еще оставалась небольшим элитарным движением, а хасидизм еще окреп и породил влиятельные династии. Его войны с миснагидами закончились необъявленным, но долгосрочным перемирием, и миснагидам оставалось продолжать вести одностороннюю борьбу. В годы правления Франца II (1804–1835) австрийское правительство постепенно отказалось от политики насильственной германизации, и эта тенденция усилилась при Меттернихе, в ходе длительного периода реакции, последовавшего за Венским конгрессом 1815 года. Режим, с подозрением относившийся ко всем формам либерализма, перестал поддерживать Хаскалу против галицийского хасидизма.
«Испытание праведника» отражает разочарование, постигшее Перла в связи с этими событиями. Но первые главы книги написаны довольно игриво и содержат целую серию эпизодов — цитата из одного из них приведена выше, — где Овадья бен Петахья, которому любопытно, как другие хасиды восприняли «Раскрывающего тайны», публикует несколько отзывов на свое сочинение. Перед этим он использует умение становиться невидимым, чтобы подслушать, что говорят о книге, но понимает, что не может записывать так быстро, чтобы точно сохранить реплики. В затруднении он обращается к традиции «вопроса, заданного во сне», молясь, чтобы ответ ему приснился — и действительно, во сне он получает указание пройти по подземному переходу, по которому, как сказано в «Шивхей а‑Бешт», Бааль‑Шем‑Тов однажды отправился в Землю Израиля, но путь ему преградила гигантская лягушка.
Овадья обнаруживает этот ход, идет по нему, встречает ту же самую лягушку и спасает ее из туннеля, в котором она застряла, и ей удается вернуть нормальные размеры. В благодарность лягушка преподносит ему магический дар вроде того, что он получил в «Раскрывающем тайны», — небольшой Schreibtafel (в переводе с немецкого «грифельная доска для письма), которая сама записывает все, что говорят рядом с ней. Вместе с доской Овадья получает инструкцию, в которой говорится, что делать, когда доска заполнится, — чтобы очистить ее и использовать дальше, на нее должен подуть праведник.
Это научно‑фантастическое записывающее устройство позволяет Овадье возобновить проект. Поскольку полевую работу легко могут делать другие, он нанимает двух помощников, которые должны взять Schreibtafel и ходить с ним по округе. Так они делают записи. Все идет как по маслу, пока дощечка не заполняется и ее не возвращают Овадье, чтобы он стер написанное. Тогда он пускается на поиски праведника, который мог бы подуть на нее, и обнаруживает, что эта задача труднее, чем он думал.
Поиски нужного человека составляют вторую, более длинную часть книги Перла. Сначала Овадья ограничивается хасидским миром. Уверенный, что там он найдет желаемое, герой не видит нужды беспокоить «цадиков нашего времени», ведь любой из их последователей достаточно праведен, чтобы очистить Schreibtafel. Но никто из хасидов, которых он просит подуть на дощечку, не может сдуть ни одной буквы, и тогда Овадья обращается к новому Дишпольскому ребе. Сначала, чтобы не тревожить ребе, он просто кладет табличку у его рта, пока тот пребывает в пьяном забытье, потом — когда ребе трезв, но ничего не помогает. С другими цадиками, к которым обращается Овадья, дело обстоит не лучше. Он пытается незаметно следить за ними, чтобы разобраться, почему так происходит, и обнаруживает, что каждый из них втайне бранит всех остальных, называя их лгунами и обманщиками. Не могут же они все ошибаться, думает Овадья, поэтому приходится признать, что это правда, и он утрачивает веру в хасидизм.
Задача очистить Schreibtafel уже не так важна, но теперь Овадью волнует другое: есть ли где‑нибудь в еврейском мире вообще праведники — а если есть, то где? В поисках он скитается повсюду. Обратившись к миснагидам, он видит, что их ученость и ритуальное благочестие — всего лишь притворство, надувательство, необходимое им, чтобы приобрести столь желанный социальный статус, признание и материальное благополучие. Затем он отправляется к маскилам, и здесь его тоже ждет разочарование — они слепо копируют европейскую культуру, которой мечтают обладать, но до настоящего ее усвоения им далеко. Возможно, стоит поискать обычного еврея, который слишком занят тем, чтобы заработать на хлеб, и у него нет желания присоединяться к любой из этих групп? Но нет, и это иллюзия. Еврейские торговцы и рабочие тоже обуреваемы пороками: они лгут, обманывают, подделывают счета, мошенничают с мерами и весами, производят и продают низкокачественный товар и нарушают обязательства. Борьба за существование только ухудшает их характер.
В тщетных поисках луча света в этой тьме Овадья пишет другу (с тех пор как он оставил хасидизм, его иврит стал куда более литературным):
Таково поведение людей, которое я наблюдал, скитаясь по городам и весям. Оно так ужасно, что я больше не могу этого выносить. Все людские стремления мне отвратительны. Мир не таков, как я себе представлял. Пока я сидел дома и не обращал внимания на мирские дела, я думал, что наш народ сохранил древний характер. Но с тех пор как я стал изучать его, я понял, что между нами и нашими предками лежит пропасть. Да сжалится Г‑сподь над нами в великой милости Его и спасет наш народ от смятения.
В отчаянии Овадья решает покинуть Восточную Европу. Если бы он решился на это через десять‑пятнадцать лет, он влился бы в растущую волну еврейской эмиграции в Америку, преимущественно из Германии. Но когда писалось «Испытание праведника», эмиграция еще только начиналась. Поэтому Овадья отправился не на запад, а на восток, на поиски сказочного средневекового Хазарского царства, населенного евреями, в надежде обрести там утраченную славу еврейского прошлого.
Хотя там он искомого не находит, но обретает нечто, дарующее ему новую надежду. Слава Хазарии исчезла, не оставив следа, но, проезжая мимо Крыма, Овадья попадает в бурю и укрывается в крестьянском доме. К его удивлению, хозяин дома оказывается евреем. Более того, он знакомит Овадью с целой общиной еврейских крестьян, населяющих этот район. Они живут, пишет Овадья, в полудюжине деревень, носящих преимущественно ивритские названия, на берегу реки Ингул, обрабатывая землю на том берегу «трудолюбиво и самым лучшим образом с утра воскресенья и до полудня пятницы». Они держат коров, и их молочные продукты — лучшие в окрестностях, а их «дома, хотя и небольшие, как у всех крестьян, аккуратные, как это редко бывает в деревнях». Кроме того, «хотя все селяне тех мест крепко выпивают, ни один еврейский крестьянин из тех, кого я встречал, не склонен к выпивке, и на всех достаточно одного кабака».
По субботам все крестьяне ходят в синагогу; по будням они летом молятся в полях, а большую часть зимы проводят в изучении еврейских текстов, и в каждом доме есть целый книжный шкаф. Гостеприимные до крайности, пишет Овадья, они «щедро и с радостью отдают мне то, о чем я даже не просил» и «никогда никого не обманывают». Они живут просто, довольствуются плодами своего труда и довольны своим жребием. Когда Овадья протягивает Schreibtafel крестьянину, у которого он остановился, тот одним дуновением сдувает с него все написанное — и это обычно для берегов Ингула, где на такое способен каждый.
Радость Овадьи от увиденного не знает границ. Он изменился и сам хочет стать крестьянином. «Я решил, — сообщает он друзьям, — поселиться здесь среди других еврейских земледельцев и стать одним из них. Вскоре, с Б‑жьей помощью, я пошлю за женой и детьми, чтобы они приехали ко мне».
Еврейские крестьяне Перла — не плод его воображения. Ингул — реальная река, впадающая в Южный Буг на пути к Черному морю к северу от Херсона, на полпути между Одессой и Крымским полуостровом. В этом районе в 1806 году царское правительство основало несколько еврейских сельскохозяйственных колоний с целью побудить евреев обрабатывать земли «Новороссии» — территории на юго‑востоке нынешней Украины, отвоеванной в конце XVIII века у турок. Несколько таких колоний получили ивритские названия, например «Нагар тов» («Хорошая река»), «Гар шефер» («Гора изобилия») и «Сде менуха» («Поле отдохновения»), и в течение нескольких лет там поселилось около 2000 еврейских семейств. Их судьба, правда, была не такой лучезарной, как описывает Овадья. Земля оказалась непригодной для мелких хозяйств, а обещанной поначалу финансовой помощи колонисты так и не дождались. Многие из них заболели; кто‑то умер; другие разочаровались и, продав участки, вернулись восвояси. В 1810 году правительственное финансирование проекта было полностью прекращено, и хотя в 1823 году оно возобновилось, по переписи 1845 года в Херсонской губернии значилось всего 1500 семейств еврейских крестьян — не больше, чем 30 годами ранее.

Мне неизвестно, бывал ли Перл в новороссийском проекте, хотя, учитывая массу информации о нем, которую Овадья сообщает своим корреспондентам, возможно, и бывал. (Когда Йонатан Меир опубликует обещанное критическое издание «Испытания праведника», мы, несомненно, будем знать больше.) Даже если нет, он наверняка знал, что далек от утопии, нарисованной Овадьей, и что сельскохозяйственная колонизация России не решала проблем восточноевропейского еврейства. Но утопии всегда в большей степени представляют собой критику настоящего, а не план будущего; описывая возможное, они осуждают настоящее. Гуигнгнмы из «Путешествий Гулливера» Джонатана Свифта не очень правдоподобны в качестве лошадей, но они представляют собой прекрасный пример для людей, как и крестьяне Овадьи для других евреев.
IX
«Я думал, что нахожусь на маленькой Земле Израиля», — пишет Овадья о путешествии в новороссийские колонии.
Конечно, это не делает Перла протосионистом. Мотив Сиона вдали от Сиона представлял собой общее место в еврейских и даже христианских источниках того периода. В «Раскрывающем тайны» Палестина предстает в качестве прикрытия для махинаций с благотворительностью, убежища для хасидских мошенников и могилы их святых, которые уезжают туда умирать. «Первое, что мы сделаем, когда доберемся туда, — пишет Зейнвл из Стамбула, — отправимся на могилы истинных праведников из наших мест и расскажем им обо всем… и мы не оставим их в покое, покуда они не отомстят нашим врагам. С Б‑жьей помощью, ты еще увидишь чудеса, амен села».
Но чудес от еврейской общины Палестины первой половины XIX века ожидать не приходилось. Она была маленькой, расколотой на враждующие этнорелигиозные фракции, у которых общими были только крайний фанатизм и зависимость от зарубежной благотворительности. Хотя Османская империя уже начинала изнашиваться, она еще сохраняла былое величие, и в Палестине никаких препятствий ее власти не наблюдалось. Крупномасштабное еврейское заселение Земли Израиля при жизни Перла не стояло на повестке дня ни у евреев, ни у окружающих их народов. Первый влиятельный еврей, который пропагандировал эту идею, сефардский раввин Йеуда Алкалай (1798–1878), высказал ее только в год кончины Перла. В Америке впервые призвал евреев массово возвращаться в Палестину еврейский политик и журналист Мордехай‑Мануэль Ноах (1785–1851) после неудачной попытки основать еврейское мини‑государство на островке неподалеку от города Буффало в 1844 году. Примерно в то же время в Англии появился христианский сионизм — преимущественно британский феномен.
Но два романа Перла не имеют никакого отношения к сионизму. Они изображают Восточную Европу, чье еврейское население больно и нуждается в радикальном лечении. Болезнь одновременно духовная и экономическая — прежде всего экономическая, а затем духовная, потому что на религиозную жизнь наложила свой отпечаток алчность, которая не любит честного труда и хочет превратить иудаизм в машину, делающую деньги. Стоит отметить, что, хотя Перл и не отрицает существования антисемитизма, в обоих романах он играет маргинальную роль. Он не просто не представляет собой реальной проблемы — Перл (как и большинство маскилов) видит в нем понятную христианскую реакцию на низость еврейской жизни.
Как невозможно найти лекарство от болезни, источник которой неизвестен, — пишет Овадья в предпоследнем послании из Новороссии, — так невозможно и помочь человеку в беде, не зная, что ее вызвало. Поэтому я счел необходимым разузнать о причине упадка нашего народа и по мере моих скромных сил рассказать всем об этом. В моих скитаниях я видел, что мы отличаемся от наших досточтимых предков не только в вопросах веры, но и в вопросах приобретений и трат. Забвение земледелия и ремесел — вот что составляет корень возобладавшего над нами зла.
Перл был не единственным маскилом, высказывавшим такую мысль, но он был одним из первых; повышение экономической продуктивности составляло неотъемлемую часть маскильской программы для восточноевропейского еврейства. Характерно для Хаскалы и представление Овадьи о том, как этого можно добиться:
Будет просто очиститься [от этого экономического нарушения], только если наши предводители и высшие классы в каждом городе согласятся на проведение существенных реформ, необходимых, чтобы оградить нас от этих пороков, а наш народ, уж конечно, послушается их. Я надеюсь, что наши предводители в других странах согласятся со мной — а если они найдут ошибку в моих словах, то пусть [придумают другой способ] прийти на помощь нашему злосчастному народу и заслужат его благодарность.
Решение должно быть предложено сверху: еврейская элита, по примеру Овадьи полностью обратившаяся к маскильским идеалам, принесет его еврейским массам. То, что подобные перемены могут исходить от самих масс, Овадья и представить себе не мог. Сбитые с толку хасидизмом, в чьи хищные лапы они попали, они ждут освобождения, которое придет от более независимых и рациональных умов.
Когда к концу XIX века серьезную силу в Восточной Европе приобретет сионизм, он немало заимствует из построений эпохи Хаскалы. Он тоже будет утверждать, что евреи Восточной Европы живут в неправильных социально‑экономических условиях; что необходимы резкие структурные изменения в еврейской жизни; что они подразумевают возвращение к земле и продуктивному труду; и что пора начать все сначала. Но сионизм отошел от Хаскалы, утверждая, что начать сначала можно только на новом месте и этим местом должна стать Палестина; что антисемитизм — это не естественная реакция на еврейские пороки и он не исчезнет вместе с этими пороками; и что успех сионизма зависит от того, станет ли он массовым движением, каким так и не стала Хаскала.
Чтобы все это стало возможным, сионизму пришлось унаследовать многие черты не только от Хаскалы, но и от хасидизма: энтузиазм, мессианские импульсы, бунт против мирских владык, миссионерский пыл, демократический и антиэлитарный характер, веру в чудеса. Хотя язык хасидов Перла и таких книг, как «Шивхей а‑Бешт», очень отличается от того языка, на котором говорят в современном Израиле, они продолжили путь для возрождения иврита в качестве разговорного языка. Даже экстатические песни и танцы, которые играли такую роль в мире халуцим, палестинских первопроходцев ХХ века, восходят к хасидской практике.
Но это все случится гораздо позже. Рассказывают, что однажды один из первых хасидских учителей Леви Ицхак из Бердичева (1740–1810), направляясь в Йом Кипур в синагогу, заглянул в окно какого‑то дома и увидел группу евреев, чрезвычайно сосредоточенно игравших в карты. «Г‑споди, как поразителен Твой народ! Подумать только, что бы было, если бы они столь же преданно служили Тебе!» — воскликнул он. Сионизм поступил наоборот и направил религиозную энергию хасидов на собственные цели. И пусть Йосеф Перл, заканчивая «Раскрывающего тайны» на пути в Землю Израиля, имел в виду совсем другое, но разве плохое вышло бы последнее примечание к роману? 
Оригинальная публикация: Sex, Magic, Bigotry, Corruption—and the First Hebrew Novel

Алтер Ребе и старик Державин

Рабби Шнеур-Залман из Ляд

