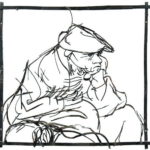Рисунки в пространстве, или Гутов vs Рембрандт
ГМИИ имени А. С. Пушкина выставляет современного российского художника. В рамках VI Московской биеннале современного искусства открылась выставка «Рембрандт. Другой ракурс», подготовленная музеем совместно с галереей «Триумф». Металлические скульптуры Дмитрия Гутова созданы по мотивам рисунков Рембрандта. Росчерк пера переведен в монументальный объект.
В отличие от рисунка на бумаге, тут все зависит от точки зрения. Ты меняешь свое расположение — и скульптура меняется тоже, расплывается или скукоживается, оживает или превращается в груду металла, а мелкие точные штрихи становятся просто сеткой или проволокой, закрученной в спираль. Здесь можно попасть в зазеркалье и оценить изнанку — которая будет так же хороша, как лицо.

Дмитрий Гутов. Нищий старик. Два ракурса работы. Один из персонажей с листа Рембрандта Харменса ван Рейна «Три наброска бородатого мужчины на костылях и женщины; мужчина в высоком головном уборе и длинном пальто на первом наброске протягивает руку женщине, дающей милостыню». 2015. Собственность автора
Идея выставки, которая будет работать до 11 октября, принадлежит Пушкинскому музею. В проекте, собственно, нет ничего удивительного: металлоконструкции Гутова выставлялись, и не раз, только ГМИИ им. Пушкина ни разу до сей поры не баловал вниманием художников нового поколения. Но можно вспомнить, что именно в ГМИИ все лето работала беспрецедентная ретроспектива американского скульптора Александра Колдера — и там тоже были сварные металлоконструкции и бесконечные мобили, проволочные лошади и акробаты, Колдер называл их «рисунками в пространстве». Это название идеально подходит к объектам Гутова — притом что он пошел совсем другим путем.
Вообще, проволочные скульптуры — совсем не то, с чего Гутов начинал. К 2007 году, когда появились его первые объекты в металле, Дмитрий Гутов, родившийся в 1960 году в Москве, был уже известным художником, автором не менее десятка персональных выставок — в Государственном центре современного искусства, в Третьяковской галерее, в галереях Москвы, Лондона и Милана, участником биеннале современного искусства в Стамбуле, Венеции, Сан‑Пауло и Сиднее, первой «Манифесты» в Роттердаме etc. Однако в своем «металлическом проекте», продолжая и развивая существующую, конечно, до него традицию придания плоскостной графике третьего измерения, Гутов остается верен себе. Возможности новых материалов, исследование законов зрительного восприятия — то, что его волновало с самого начала, с одной из первых его выставок. Она называлась: «Михаил Лифшиц — 90 лет со дня рождения» и прошла в ГЦСИ в 1995 году.
Лифшиц — любимый философ художника, окончившего в свое время Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина (Академию художеств) как теоретик и историк искусства. Это многое объясняет. Гутов считает Лифшица «вершиной нашей еврейской мудрости» и с удовольствием приводит по памяти рассуждения Михаила Лифшица об офорте Рембрандта «Три дерева» (его тоже можно увидеть на выставке) — по сути, это доскональный разбор и его, Гутова, металлических работ: «Почему этот офорт гениален? Потому что художник нашел идеальную точку взгляда на эти три дерева, которые являются квинтэссенцией эстетического подхода к миру. Если бы деревья стояли не так, а эдак, они сливались бы в одно нерасчленимое пятно. Если бы эти три дерева оказались чуть дальше, они бы потеряли свою цельность, единство, и получилось бы, что мир рассыпается. А мир‑то, мы знаем, цельный. Получается, что, меняя точку, с которой ты смотришь на объект — или меняя ее в голове, — ты ищешь и находишь тот идеальный, но не придуманный или навязанный, единственно верный ракурс».
- Рембрандт Харменс ван Рейн. Артаксеркс, Аман и Эсфирь. Фрагмент. 1660.Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина
- Дмитрий Гутов. Нищий старик. Два ракурса работы. Один из персонажей с листа Рембрандта Харменса ван Рейна «Три наброска бородатого мужчины на костылях и женщины; мужчина в высоком головном уборе и длинном пальто на первом наброске протягивает руку женщине, дающей милостыню». 2015. Собственность автора
- Мужчина в берете. 2015. Собственность автора
- Старик. 2015. Собственность автора
- Нищий старик. 2015. Собственность автора
- Рембрандт Харменс ван Рейн. Рисунок «Набросок женщины с ребенком на руках». Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина
- Молодая женщина с ребенком на руках. 2015. Собственность автора
- Девушка. С рисунка «Исцеление Товита». 2015. Собственность автора
Выдержка из Лифшица украшает выставку и комментирует ее. Но Лифшиц вместе с Майстером Экхартом, средневековым немецким мистиком (он говорил: «Хочешь общаться с Б‑гом? Превратись в ноль, и тогда тебе будет чем заполниться»), Вальтером Беньямином и Гершомом Шолемом, которых Гутов поминает и цитирует, — теория, объясняющая и обосновывающая проект. Тут важно понимать, что художник не претендует на роль посредника между Рембрандтом и современным зрителем, это не популяризация классики, не попытка сделать доступнее и понятнее то, что трудно разглядеть. Его металлические скульптуры — абсолютно самостоятельное искусство. В котором автор — да, опирается на Рембрандта. Мировая история искусства знает немало таких примеров, в конце концов, ведь и «Олимпия» Мане опирается на «Венеру Урбинскую» Тициана, и фортепианные миниатюры Листа, воспроизводящие темы Шуберта, — великая оригинальная музыка сама по себе.
Помимо теории, были и вполне жизненные впечатления, из которых родилась новая техника и новый материал. «Я у себя в Кузьминском лесу ходил, фотографировал порушенные старые советские заборы, — вспоминает Гутов. — Такое бывало в заброшенных парках: люди нелегально огораживали участок, высаживали морковку, укроп. И ставили забор, чтобы не украли. Для забора тащили спинки кроватей, трубы, сетку, любые железки, связывали их. Как они все это тащили, непонятно — туда даже нельзя было добраться на машине. И как связывали — проволокой, вручную! Меня завораживало это зрелище, особенно зимой на фоне снега, все время в этих конструкциях что‑то мерещилось. Я думал: если чуть‑чуть изменить, что‑то возникнет. И когда в 2007 году мне предложили участвовать в “Документе” (одна из главных международных выставок современного искусства, проходит раз в пять лет в Касселе. — И. М.), я им предложил: “Давайте я сделаю иероглифы в виде этих порушенных заборов”. И сделал серию настоящих иероглифов из металлического прута».
- Рембрандт Харменс ван Рейн. Артаксеркс, Аман и Эсфирь. Фрагмент. 1660.Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина
- Дмитрий Гутов. Нищий старик. Два ракурса работы. Один из персонажей с листа Рембрандта Харменса ван Рейна «Три наброска бородатого мужчины на костылях и женщины; мужчина в высоком головном уборе и длинном пальто на первом наброске протягивает руку женщине, дающей милостыню». 2015. Собственность автора
- Мужчина в берете. 2015. Собственность автора
- Старик. 2015. Собственность автора
- Нищий старик. 2015. Собственность автора
- Рембрандт Харменс ван Рейн. Рисунок «Набросок женщины с ребенком на руках». Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина
- Молодая женщина с ребенком на руках. 2015. Собственность автора
- Девушка. С рисунка «Исцеление Товита». 2015. Собственность автора
Были и другие источники, натолкнувшие Гутова на эту идею. Начиная с детского творчества — в 1960‑х это было принято: найти в лесу причудливо изогнутую корягу и увидеть в ней (или смастерить из нее) собаку, например, — и заканчивая полотнами Брейгеля, который в 1960–1970‑х был для советской интеллигенции художником номер один. У Тарковского в фильмах был Брейгель, Новелла Матвеева писала поэму «Брейгель», фильм «Легенда о Тиле» Алова и Наумова весь построен на цитатах из Брейгеля. Черные ветки из брейгелевских «Охотников на снегу» — это тоже тот «сор», из которого выросли работы Гутова: «Мужчина в берете» и «Старик» с рисунка Рембрандта «Проповедь св. Иоанна Крестителя» (1634), «Младенец у груди» с листа набросков середины 1630‑х, «Девушка» с «Исцеления Товита» (около 1660‑го)… Совсем новая работа — «Молодая женщина с ребенком на руках» — сделана специально для выставки: моделью для нее послужил единственный рисунок Рембрандта, имеющийся в коллекции ГМИИ. Остальные рисунки представлены копиями — из Лондона, Берлина, Амстердама.
Всего у Гутова здесь семь вещей, размещенных в Итальянском дворике музея и открывающемся из дворика зале Рембрандта. Из зала вынесено в соседнее помещение все, что там висело. Кроме одного полотна. Художнику хотелось разбавить строгий черно‑белый, графический пафос выставки. Надо было внести цветовое пятно, и не просто цветовое, а ударное. И картина была выбрана не случайно.

Рембрандт Харменс ван Рейн. Артаксеркс, Аман и Эсфирь. Фрагмент. 1660.Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина
Он абсолютно убежден, что это лучшая картина из всего, что хранится в Москве, чудовищно, по его мнению, бедной качественной живописью. С его выбором трудно спорить, особенно глядя на полотно. Алое платье Эсфири — как будто еще один источник света в зале. И напоминание о «еврейском» Рембрандте, о его полотнах, заслуживших голландцу и христианину Рембрандту репутацию главного певца еврейской жизни.
«Рембрандту еще важна судьба, которая стоит за человеком, за народом, он искал модели, в которых эта тема судьбы, связанная вообще с трагизмом человеческого существования, была бы максимально проявлена. У него разрабатываются такие ветхозаветные сюжеты, которые больше вообще ни у кого не встретишь», — говорит Гутов, и это не может его не волновать еще и как еврея, у которого бабушки‑дедушки говорили на идише, а папа пошел сейчас в синагогу изучать Тору — в 85 лет. У художника Гутова одна дочь — певица и исполняет клезмерскую музыку, а другая — лингвист, окончила университет города Лейдена, где, кстати, родился Рембрандт.
«Знаешь, как назывался ее диплом? — спрашивает Гутов. — “Влияние идиша на уголовный голландский сленг”».

Колодец

Лехаим № 2 (406)