Парижская трагедия, несмотря на весь ужас произошедшего, не могла не стать темой для общественной дискуссии о границах сатиры. О том, как изменится литературная сатира, «что можно или что нельзя высмеивать», размышляют британский писатель, лауреат Man Booker Prize Говард Джейкобсон, писатель и литературовед Чингиз Гусейнов, филолог Евгений Добренко, критик и прозаик Роман Арбитман, поэт Кирилл Медведев.
Говард Джейкобсон Первое, что я хотел бы сказать по теме обсуждения, это то, что, хотя люди имеют право обижаться — а я сам чуть ли не каждую минуту обижаюсь на что‑нибудь из услышанного или прочитанного, — их обиду не надо абсолютизировать. Свободное общество не должно придавать большое значение этой обиде, тем более терпеть проявления насилия, ею вызванные. Само по себе право обижать — неоспоримо. Отмените его — и опасности подвергнутся философия, изобразительное искусство, комедийный жанр… да и сама радость жизни.
Думаю, недозволенных тем не должно оставаться. Нельзя отнимать возможность высмеивать всех и вся. И сатирики должны быть готовы сами стать объектами насмешек. Сатира в своих лучших проявлениях всегда диалогична. Есть много примеров — и в литературе, и в жизни — обмена колкостями, в котором все участники с удовольствием оскорбляют друг друга. Как, например, Фальстаф и Принц Гарри у Шекспира.
Однажды на Тринидаде я стал свидетелем подобного соревнования в остроумии, где поэты и музыканты по очереди старались превзойти друг друга в грубости. Это было необыкновенное зрелище. Не хочу сказать, что такое поведение может стать нормой для повседневной жизни, но оно напоминает нам о тех удовольствиях, которые может доставить сатира. Правда, есть проблема: вдруг наша обида слишком велика, чтобы можно было смеяться? И что, если мы недостаточно образованны, чтобы ответить? Тогда наш удел — боль и страдание, но наши боль и страдание не могут служить оправданием попыткам заставить замолчать, с помощью оружия или цензуры, — тех, кто над нами смеется.
То, что жестокие шутки могут задеть, не должно стать поводом для запрета. Но очень многое зависит от объекта сатиры и от наших намерений. Бездумная жестокость по отношению к беззащитной жертве не может никому понравиться. В романах Джейн Остин обидчики слабых в итоге часто оказываются жестоко посрамлены. Некоторые «наезды» прощать нельзя. Одно дело говорить, что сатира не должна иметь ограничений, совсем другое — притворяться, что мы свободны от общества и не обязаны демонстрировать доброту и терпимость в отношении ближних. Мудрый сатирик умеет находить правильное соотношение между свободой и ответственностью. И я бы не назвал поиски этого соотношения самоцензурой. С кем бы мы ни взаимодействовали в повседневной жизни, нам приходится следить за тем, что говорим. В этом состоит простая вежливость. Когда мы видим, что кто‑то получает удовольствие от того, что оскорбляет окружающих только ради самого оскорбления, мы склонны строго осуждать такого человека. Конечно, мы его не застрелим. Не будем мы и требовать того, чтобы его наказало государство. Людям нужно позволить быть невежливыми, если уж они этого так хотят, — пока невежливость не приводит к нарушению закона.
Так как же быть с теми, кто попадает в тюрьму за призывы к насилию и разжиганию ненависти: расистами, подстрекателями, людьми, представляющими угрозу для самого существования демократии? Тут нам не помешала бы мудрость царя Соломона. Я верю в свободу слова, которая включает и свободу выражать ненависть. Но если можно доказать, что такая речь имеет намерение подстрекать кого бы то ни было к насилию или даже убийству, — разве не нужно здесь сделать исключение? Некоторые говорят: веришь в свободу слова, будь последователен. Но тогда окажется, что мы воспитываем фанатиков. Правда не может быть универсальной. Исключения неизбежны. Несовершенство не просто свойственно человеку, оно необходимо. Как поет Леонард Коэн, «во всем есть трещинки, через которые просачивается свет». И мы должны позволить этому свету проникнуть в наши дискуссии о свободе слова, которые, в конце концов, мы ценим не как нечто абстрактное, «вещь в себе», но как необходимую часть нашей жизни. Там, где свобода слова несет угрозу жизни, предпочтение несомненно нужно отдать жизни.
А судьи кто? В большинстве случаев ответ на этот вопрос очевиден. Заявляющий: «Убейте этого» или «Убейте того!» злоупотребляет свободой слова и лишается ее защиты. А в тех случаях, когда это не настолько очевидно? Ну, тогда позовем царя Соломона.
Чингиз Гусейнов В спокойные времена вряд ли б возник вопрос о границах сатиры: она вечный род‑вид‑жанр‑стиль искусства, покуда человек — существо живое, а не робот, и в нем вечный бой между Б‑жественным и сатанинским, надо всемерно помогать ему победить в себе это сатанинство. А «границы» — это уже, переведу разговор на карикатуры, не острая сатира, а дружеский шарж. Известно, что во все времена сатиру не любили (помните: «нам нужны такие Гоголи, чтобы нас не трогали»), за неё в словесном выражении изгоняли‑травили‑казнили.
Да, тяжкое время чудовищного раскола мира, «ложь» стала рядиться в «правду» (читай‑слушай официальные СМИ!): именно результатом мирового кризиса стал расстрел именем ислама фанатиками‑террористами ни в чем не повинных журналистов и почти одновременно, это не случайное совпадение, а органическая часть террора — мирных евреев в Париже!..

Плакат в память о погибших во время теракта в редакции «Шарли эбдо». Надпись гласит: «Хватит ненавидеть евреев!» Париж. 7 февраля 2015
Вот карикатура, в которой Мухаммед изображен с бомбой в голове. Художником уловлен социальный смысл террора: бомбу‑то в голову пророка вложили террористы. Это пророк именно террористов, пугающий мир искаженным исламом, вот кто, показывает искусство, чуткое на время, истинные враги ислама!.. Или Мухаммед у врат рая, куда выстроилась длинная цепочка точечек, олицетворяющих так называемых шахидов, они на самом деле элементарные убийцы, одураченные своими вождями‑преступниками: очередь спешит в рай, а Мухаммед им говорит: «Нет вам сюда дороги!», «Ваша дорога, — домыслю за карикатуристов, — в ад! В геенну огненную, вы преступники, убийцы, оскорбляете Аллаха! Запретно в Коране убиение живой души!»
И мировая демократия спасовала. Стала извиняться. Наказывать карикатуристов. Говорить с бандитами на чуждом их разумению языке прав человека, законности! И тем еще более агрессировала террористов, подвигнула их на наглый вызов здравому смыслу! Нет никакого знака равенства между миролюбивым в своей основе исламом и лжеисламом террористов‑шахидов, несущим миру смерть и разруху. Осмеивается не пророк ислама, а пророк кучки убийц. А что в исламе запретно изображение пророка и Б‑га — очередное искажение: в Коране ни слова об этом, люди договаривают за Б‑га! Да, мне дорог Коран, но он в лжеинтерпретациях стал основой для уничтожения немусульман, впрочем, мусульман тоже, которые якобы предались «неверным». Кстати, по той же ложной интерпретации утверждается, что Коран, дескать, отменяет все иные верования и их книги. Из обилия коранических цитат — лишь две: «И эта Книга, что тебе Мы ниспослали, на пророчество благословив, подтверждает истинность ниспосланного ранее» (6/92). «Сынам Исраила Мы дали Книгу, мудрость, дар пророчества, их наделили благами, и над мирами их превознесли» (45/16).
А теперь о вторых убитых в парижской трагедии — евреях: о них мир… молчит! Если говорить на полную чистоту, используя язык как Б‑жий дар для выражения истины, то террор именем лжеислама начался и глобально расцвел именно в связи с созданием Государства Израиль. Тут корень, тут начало, все иные терроры — метастазы, будь то в США или во Франции, производные от большого террора по уничтожению Израиля и евреев: это — официальная концепция, с которой предводители арабов, подстрекаемые «сообществами» арабских и неарабских государств, выступают с высоких трибун на протяжении жизни трех поколений. Сегодня массовый террор, оправданный, может, в Средневековье, с «разящим мечом ислама», инквизицией христиан, гонениями на евреев, нетерпим.
Ислам в его ложном истолковании перед лицом кризиса мировой демократии, заигрывающей в страхе с протестными волнами (тут и пережитки многовекового антисемитизма, который в крови, в генах европейской цивилизации), возжелал создать халифат… — на беду всему миру. И в этих условиях злым карикатурам не быть? Оскопить сатиру?!
Евгений Добренко Мне представляется, что разговор о сатире, а точнее, об объектах осмеяния, если его опять свести к тривиальным рассуждениям о подрывной природе сатиры и заключенной в ней свободе, о том, что смех раскрепощает, разрушает идеологический и религиозный догматизм и омертвевшие социальные устои, мы мало продвинемся в понимании сегодняшнего смеха и его социальной природы. История сатиры говорит о том, что она может служить укреплению власти, что смех может быть источником страха. Запрет на осмеяние порождает особого рода комическое, и с таким комическим Россия в ХХ веке уже сталкивалась в эпоху сталинизма, когда сатира верно служила режиму — достаточно пролистать подшивки самого тиражного советского журнала «Крокодил», почитать фельетоны «Правды», басни Михалкова, посмотреть карикатуры «Известий» — от Кукрыниксов до Бориса Ефимова… Самые лакировочные советские фильмы, типа «Кубанских казаков», были комедиями.

Карикатура на поэта Джека Алтаузена из книги «Карикатуры пародии». Авторы: А. Архангельский, Кукрыниксы. Москва: ГОСЛИТИЗДАТ; 1935
Сегодняшний карнавал, простирающийся от беснующейся «арабской улицы» до ерничающих с экранов леонтьевых, киселевых и шевченко, далек от бахтинской схемы, как был далек от нее карнавал сталинский. Ведь в бахтинской системе координат невозможно помыслить себе «карнавал», главная цель которого состояла как раз в утверждении социальной иерархии, в укоренении социальной дистанции и классовых барьеров, в легитимации средневековых установлений, запретов и ограничений, «карнавал», внутренним содержанием которого был страх и ликование. Именно таким был сталинский карнавал. Он был вчера и остается сегодня орудием устрашения. Власть, насилие, авторитет, выражающие «народную», т. е. патриархальную, культуру, культуру вчерашних крестьян и освященные их «карнавальным мироощущением», говорили с ними и для них на языке смеха вчера, так же как говорят с ними они и сегодня — тем же языком спесивой издевки и злобной сатиры на весь окружающий мир.
До тех пор пока мы будем оставаться в парадигме бахтинской теории амбивалентного смеха, построенной на «невстречающихся» оппозициях «народной» и официозной культур, мы бессильны перед задачей понять смеховую культуру массового общества, в котором смех давно стал частью официальной культуры.
Сатира занимается отнюдь не только подрывом устоев. В ничтожестве сатирических персонажей сатира, подобно героике, утверждает «авторитарную незыблемость [footnote text=’Тюпа В. И. Художественность литературного произведения. Красноярск, Изд‑во Красноярского ун‑та, 1987. С. 114.’]истины[/footnote]» и устоев социального миропорядка: «Фактически сатира исходит из героической личности как актуальной духовной потребности общества, но реализует ее в “безгеройной” актуальной ситуации». Вот почему именно сатира была близка героически‑эпическому миру сталинизма, в котором не было места ни иронии, ни юмору — точно то же характерно и для сегодняшних государственно‑религиозных охранителей.
Не случайно советский и постсоветский смех столь чужд иронии. Именно о ней писал в своем трактате «Что такое социалистический реализм» А. Синявский: «Ирония — неизменный спутник безверия и сомнения, она исчезает, как только появляется вера, не допускающая [footnote text=’Терц А. Что такое социалистический реализм? // Фантастический мир Абрама Терца. Париж: Международное литературное содружество, 1967. С. 433.’]кощунства[/footnote]». Ирония — продукт сомнения, ослабления или потери веры. И борясь с ней, современное средневековье борется за свое выживание. Потому столь остра и кровава эта борьба и потому отступать в ней противоборствующим сторонам, по сути, некуда.
Роман Арбитман Состояние, в котором в нынешней России находится сатира, можно охарактеризовать словами: «Ни жива, ни мертва». С одной стороны, за сатирические тексты у нас пока официально не убивают (и это внушает осторожный оптимизм). С другой стороны, сама область бытования этих текстов в нулевые годы стремительно скукоживается и скоро будет неразличима даже в микроскоп. После исчезновения с экранов программ «Куклы», «ИтогО», «Бесплатный сыр» телеформат для писателя‑сатирика потерян и, сдается мне, надолго. Обидно за талантливого Виктора Шендеровича, которого больше нет в эфире ТВ, и еще более за телезрителей, мнения которых никто не спросил. Была сатира на экране, да вся вышла. Из‑за варварской «зачистки» телепространства целый сегмент искусства с почтенным бэкграундом в настоящее время отсечен от массовой аудитории или заменен такими суррогатами, к которым даже трудно подобрать дефиницию. Но не сатира — точно. Сказать, что перед нами юмористика — значит злостно оклеветать само понятие «юмор», заставить ворочаться в гробах классиков жанра, от Аверченко до Вудхауза. В самом деле, к какой сфере культуры отнести литературную основу теперешних развлекательных программ на всех каналах, где большинство шуток благоразумно посвящены телесному низу либо зарубежью (проще говоря, либо заднице, либо президенту США)? Вопрос без ответа. Если кто помнит, похожая свобода выбора тем существовала в эпоху СССР и предварительной цензуры: только место, где теперь царит задница, у тогдашних юмористов занимали или сантехник, или управдом, или теща.
Да, благодаря существованию интернета сатира легко перетекает в социальные сети и прописывается там, но перспектив жанру это не прибавляет. Я не сноб и не имею ничего против воспетой Бахтиным народной смеховой культуры, художественной самодеятельности и прочего живого творчества масс в свободное от основной работы время, но все же сочинение текстов — удел профи, которым, как ни крути, трудно выжить без какого‑нибудь вознаграждения за свой труд, а ни «ЖЖ», ни «Фейсбук», ни «ВКонтакте» гонораров не платят. Никоим образом не ставлю под сомнение лучшие побуждения тех, кто сегодня пишет в сети, и знаю, что среди любителей есть способные люди. Но чаще всего там, где интернет‑сатира выходит за рамки двух‑трех удачных фраз (и тем более там, где вполне справедливые сарказмы зарифмованы), литература неудержимо смещается в область чистой графомании.
Да, еще пока остается традиционная для сатиры область «бумажной» литературы, но, учитывая обвальное падение тиражей, профессия писателя в скором времени может стать маргинальной, а с учетом стремительного роста цен на книги чтение становится роскошью, доступной или богатым, или упертым. Конечно, бывают исключения, но в целом практика показывает: уровень адекватного восприятия сатирических текстов обратно пропорционален уровню достатка человека. Те, кто вписался в реальность, не в большом восторге от литературного потрясения основ; тем же, у кого все вокруг вызывает тошноту и ужас, любые сарказмы писателей‑сатириков покажутся половинчатыми. В итоге книга залежится на полке.
И, наконец, о главном: о внутренней цензуре писателя, которая с каждым годом все больше свирепствует, поскольку напрямую связана с инстинктом самосохранения. Например, для меня, либерала, еврея и атеиста в одном лице, многие темы теперь недоступны. Семь лет назад я еще мог, например, написать книжку в жанре «альтернативно‑исторической» сатиры (намеренно не стану упоминать, как она называется). В ней описывалась Россия после Ельцина, и там президентом становился не тот, кого вы знаете, а другой человек, да еще и еврей. И семь‑то лет назад у меня были проблемы с поисками издателя, а теперь таких смельчаков и вовсе не найти — а ну как этот сюжет сочтут политической крамолой? И тогда статья и срок. Еще пять лет назад я мог для другой своей книжки (опять не стану лишний раз напоминать, как она называется) придумать парадоксальную дискуссию между президентом и патриархом. А сегодня уж шиш — хлопот не оберешься, если какой‑то бдительный гражданин углядит оскорбление его сакральных чувств. И, значит, опять статья — и пожалуйте по этапу.
Еще десять лет назад в третьей книжке (уж тем более обойдемся без названия) появлялся злодей‑террорист кавказского происхождения и мусульманского вероисповедания, но теперь, похоже, и этот отрицательный герой недопустим: а ну как Рамзан Ахматович заподозрит в литературном образе карикатуру на единоверца? И тогда уж писателю опасаться надо не статьи УК РФ и срока, а кое‑чего похуже…
В общем, получается, что в современной России писателю лучше заниматься другими, не сатирическими, жанрами. А если кому‑то в голову взбредет странная идея над чем‑то остро — и безопасно — пошутить, то число объектов ограничено: теща, афедрон, Обама и принц Гаутама. Буддисты, по слухам, пока миролюбивы.
Кирилл Медведев Я считаю, что в искусстве практически «все дозволено»: мы можем выражать сиюминутные эмоции, собственный ограниченный опыт, можем вкладывать сомнительные высказывания в уста персонажей, которые лишь частично совпадают с нами или не совпадают вообще. Нельзя и невозможно постоянно цензурировать себя — как с точки зрения тех или иных традиционных, консервативных норм, так и с точки зрения часто меняющихся норм политкорректности. Но такая свобода художника возможна именно потому, что сфера искусства — как бы я лично ни симпатизировал идеям авангарда о преодолении границы между искусством и жизнью — это сфера ограниченная, ее в принципе можно более или менее четко отделить, в том числе с помощью каких‑то фильтров для слишком впечатлительных, если это необходимо.
У ансамбля «Аркадий Коц», в котором я играю, есть песня, где используется слово «телка». Когда феминистки, безусловно оправданно, пеняют нам за использование этого сексистского словечка, мы отвечаем: хотя песня поется от условного первого лица и во многом похожа на манифест, одновременно в ней есть и некоторое отстранение, мы вскрываем в том числе наши собственные стереотипы. Но — претендуя на такое право художника, мы считаем, что у нас есть и обязанность: вне творчества всегда четко и по‑хорошему догматично объяснять свою профеминистскую позицию (и, конечно, стараться следовать ей), а не отговариваться в духе «жизнь сложна и многообразна» или «я все, что хотел, сказал своим искусством».

Граффити в Париже, появившиеся на улицах после теракта в редакции «Шарли эбдо». 24 января 2015
А вот в публицистике, в социальных сетях, вообще в зоне прямого публичного высказывания стоит, на мой взгляд, воздерживаться от прямых оскорбительных выпадов, чего бы они ни касались — религиозных чувств, национальных, гендерных и других идентичностей. Дело не только в этом: лично мне просто очень тяжело жить в обществе, в котором люди называют друг друга «колорадами», «жидами» или «пидорасами». Просто это, опять же, вопрос в том числе политический — я вполне разделяю ортодоксальный марксистский подход, согласно которому религиозные, национальные, культурные раздоры лишь затрудняют общую борьбу людей угнетенных за свои интересы. И в этом смысле, например, профсоюзный активист, всеми силами старающийся объединить людей поверх их самых разнообразных религиозных, национальных и прочих идентичностей, культурных стереотипов, мне гораздо ближе и понятнее, чем современный художник, полагающий, что антирелигиозными акциями или карикатурами он способствует освобождению и прогрессу.
«Ни в коем случае не допускать каких‑либо выступлений, оскорбляющих религиозное чувство массы населения», — писал Ленин в 1921 году. Увы, и при жизни Ленина, и после его смерти форсированное строительство светского общества в СССР подразумевало в том числе бессмысленное издевательство над чувствами верующих, разрушение памятников, подмену старых культов и догм новыми, квазирелигиозными и квазинаучными. Со всем этим, на мой взгляд, отчасти связано то возрождение религии, в ее порой самых мракобесных, тоталитарных, реваншистских формах, которое мы видим сейчас.
Можно актуализировать этот пример, представив себе, например, завод, на котором идет забастовочная борьба, или квартал, в котором жители разных религий и культур вместе борются против строительства торгового центра. Очевидно, что какая‑нибудь радикальная антирелигиозная карикатура, появившаяся в этом контексте, пусть и сделанная с равноудаленных от любой религии позиций и с какими угодно отсылками к традициям Просвещения, сыграла бы деструктивную, разобщающую роль, притом что художник, разумеется, должен иметь полное право сделать такое высказывание и не быть юридически осужденным, а тем более убитым за это.
В общем, на вопрос «Что можно, а что нельзя?», конечно, нельзя ответить раз и навсегда. Но проблемные линии, на пересечении и столкновении которых современному человеку стоило бы искать ответ в каждом конкретном случае, мне кажется, таковы.

«Хумаш Коль Менахем»: Что ответил Моше
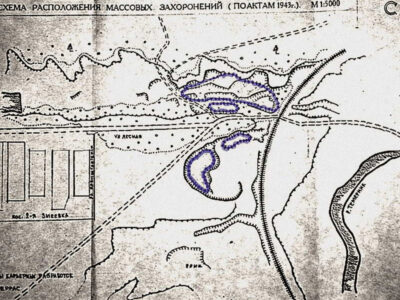
Змиевская балка: трагедия и война памятований

