Рассказы
Стена плача
Где она? В этом маленьком дворике на Новосельской, с каштаном, разросшимся выше двухэтажного флигеля, с мраморным колодцем, сверху забитым досками, и бельем, висящим поперек двора?
К какой стене примкнуть? К той, где из открытого окна, распевая горло, накатывается на весь двор: «А‑а, а‑а‑а…», или к той, где кормит куклу семечками четырехлетняя леди?
И к той, и к другой стене с интервалом в два дня подошел автобус, и с тяжелыми баулами, торопливо раздаривая соседям оставшуюся утварь, наспех распивая траурное шампанское, и от той, и от другой стены рухнул в автобус осколок Великого исхода.
Железная табличка в подъезде с указателем ранее проживавших в доме жильцов — мемориальная доска. Здесь все: живые, мертвые, без вести пропавшие.
Закрываю глаза.
— Посмотрите, что она мне сыплет на голову?! — неизвестно кого вопрошает визгливый женский голос. — О! — Торгующая виноградом женщина отскакивает в сторону, задирает голову и машет кулаком…
Подметавшее балкон «О!» быстро прячется в комнате. Посланные вслед залпы словесной картечи летят в воздух, бесследно растворяясь в плотных слоях атмосферы.
«О!» не безлико. Оно появляется на балконе третьего этажа в виде полногрудой женщины в сиреневом трико и белом, шитом на заказ лифе, с ведром воды и ультиматумом: «Я счас вылью тебе ведро на голову! Ты уберешься со своим виноградом или нет?!»
Оцинкованное ведро угрожающе накреняется. Задравшая голову продавщица беспомощно разводит руками, объясняя, что ее поставили торговать виноградом именно здесь.
— А у меня из‑за твоего винограда пчелы на третьем этаже! Я вся хожу искусанная! — не желает сдаваться «О!». — Я тебе в последний раз говорю! — И уходит в комнату, удовлетворенная величием угрозы.
Продавщица, с утра тихо мечтающая о небольшом дождике, невозмутимо садится на пустой ящик, выслушивая сочувственные реплики коллег, торгующих за соседним прилавком.
— Как тебе нравится, ей пчелы мешают?!
— Дать ей по рылу, чтобы она успокоилась…
— Оно мне надо — с ней связываться, — ободренная сочувствием, отвечает продавщица. — Пусть живет…
— При такой жаре могла бы и вылить стаканчик. Ничего бы с ней не случилось. Руки бы не отсохли, — комментирует переговорный процесс покупатель. — Он протягивает продавщице целлофановый кулек.
— Два килограмма. Только сделайте, как себе.
— У нее, наверно, сахар, раз к ней пчелы липнут, — отбирает продавщица красивые виноградные гроны. — Ваша жена будет довольна.
— А вы?
— Я уже довольна…
— Так ты уберешься уже или нет?! Или я вызову милицию, что ты торгуешь не на своем месте! — включается третий этаж.
— Женщина! Вам что, там наверху нечего делать?! — вступается за продавщицу покупатель винограда. — Она же не сама сюда встала! Ее поставили!
Через час, когда тропический ливень навалился на город и от грозовой канонады затрещали барабанные перепонки, на балконе третьего этажа вновь появилась «О!»
— Ты еще не околела?! — кричит она съежившейся продавщице и, помахав складным японским зонтиком, бросает его на лоток.
Та смеется, прячась под зонтиком: «Спасибо! Не дождетесь!»
Открываю глаза.
Атлантический океан тихо плещется у моих ног. За спиной круглое здание Нью‑Йорк Аквариума, бордвок — широкий деревянный настил, окантовывающий знаменитые Кони‑Айленд и Брайтон‑Бич пляжи, и потный воздух южного Бруклина. Бордвок, пограничная полоса «город–океан» — слепок Приморского бульвара дотелевизионной Одессы — вечерами усыпан осколками Великого исхода.
— Дэвид, ты будешь слушаться бабушку или останешься без Диснейленда!
Четырехлетний Дэвид норовит на роликовых коньках исполнить пируэт, падает, встает, бабушка хватает сорванца за руку:
— Посмотри на этого ребенка, что он вытворяет!
Дэвид, пробуя вырваться, хватается за соломинку:
— А я съем твои фудстемпы! — и для верности показывает язык.
— Мама, оставь его, — вмешивается дочь. — Пусть падает — лучше спать будет.
Закрываю глаза.
На другой день «О!» спускается за зонтиком, и продавщица возвращает его с благодарностью: «Возьми абрикосу. Я дам тебе, как на Привозе».
— Спасибо, я уже сделала базар в десять утра.
— Все равно возьми — у меня дешевле. Такой абрикос на улице не валяется.
И они расстаются как лучшие подруги.
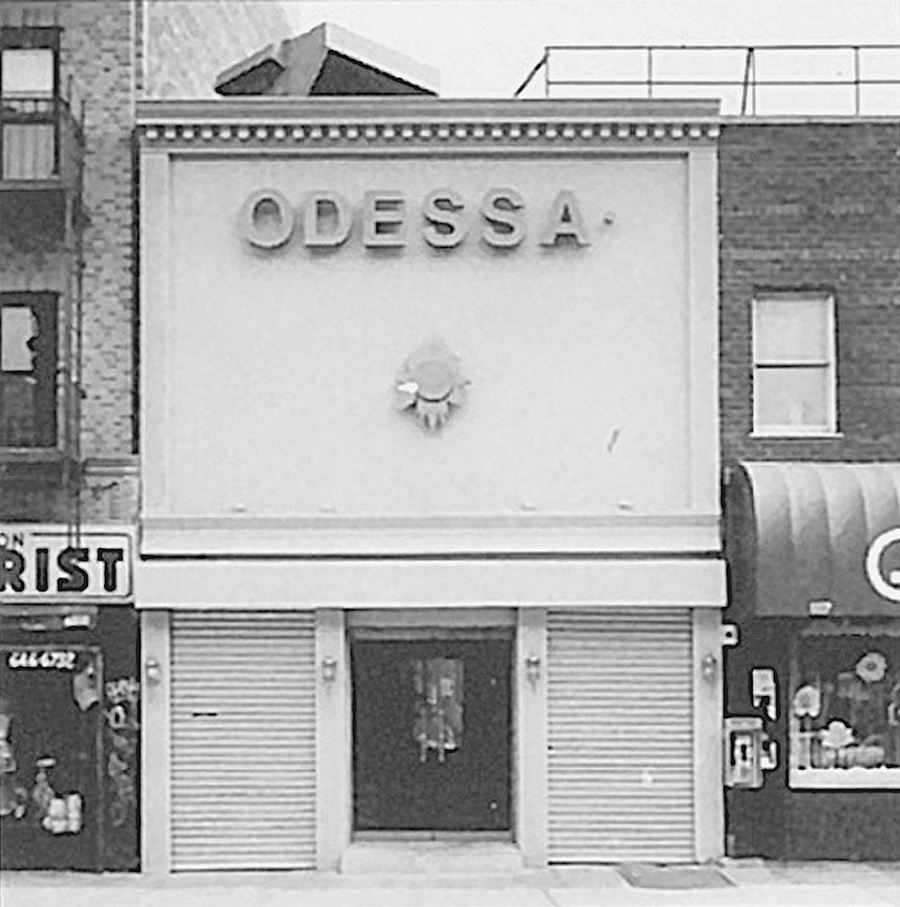
* * *
Южный Бруклин — осколок стены.
В приокеанских ресторанах ведущий поочередно объявляет: «Для бывших киевлян…», «Для петербуржцев…», «Для москвичей…» — клич бьет в голову, первые аккорды, как удар невропатолога по коленной чашечке, действуют моментально, и зал реагирует ногами, но, когда звучит: «Исполняется для одесситов…», и почти всегда: «Пахнет морем, и луна висит над самым Ланжероном…» — нож в горло — ноги немеют. Не стынут — немеют.
Энтони, двухлетний американец, на это не реагирует. Мама зовет его Антошкой, и он смеется рыжими глазами, не зная еще подлинного своего имени. Как и языка, который станет для него родным. Что ждет внуков его? Новый исход? И новая Стена? Не допусти этого, Всесильный и Неподкупный, Жестокий и Милосердный, если что‑нибудь еще во власти Твоей.
Еврейское кладбище
Кладбищенской земляники крупнее и слаще нет.
Не знаю почему, но именно эти цветаевские строки назойливо лезут в голову всякий раз, когда бреду я аллеями Третьего еврейского кладбища.
На месте Первого, основанного на Молдаванке в позапрошлом столетии, разбит ныне парк.
Второе, или, как его называли в начале прошлого века, Новое еврейское кладбище, соседствовало через дорогу со Вторым христианским. Церковь и синагога мирно смотрели друг на друга, но так повелось — жизнь еврейского кладбища ненамного длиннее короткой жизни его обитателей.
Кладбище сносилось на глазах молчащего города. От вокзала стремительно накатывала новая автострада, и бульдозеры безжалостно утюжили бесхозные могилы, выкорчевывая из жизни Одессы следы ее буйной юности. В эти безумные дни бесследно исчезла бабелевская Одесса.
Третье перенаселено, но Четвертого, за ненадобностью, не будет — будущие постояльцы рассасываются по миру тоненькими ручейками слепых побегов.
Я бреду по кладбищу один. Когда‑то я ходил с мамой и с сестрой ее, Аннушкой, к папе, к дедушке и бабушке, а теперь и к ним, и к маме, и к Аннушке…
Вот эта застывшая в камне девочка с толстой косой погибла при газификации дома. В момент взрыва она играла на пианино, а ее бабушка, чудом оставшаяся в живых, вязала ей в соседней комнате носки…
А этот мальчик, сын Аннушкиной сослуживицы, нелепо погиб в армии. Работая на элеваторе, попытался схватить плывущую на конвейерной ленте лопату и поскользнулся. Когда его откопали, он был мертв.
Мамин ученик, Саша Волянский, вместе с мамой и тетей улетевший перед свадьбой в Москву… Самолет разбился при взлете из аэропорта Внуково. Где его невеста и с кем — какое это уже имеет значение?
Кладбищенский маршрут мой — по часовой стрелке — неторопливый большой круг от Ляленьки к деду.
По пути и слева, и справа, прерывая раздумья, окликают знакомые голоса: «Эй! Стой! Как ты там — за оградой?»
Я стараюсь не задерживаться возле них — мама обижается, если я нахожусь у нее недолго, и жалуется покоящейся рядом бабушке: «Он и раньше таким был. На пять минут забежит и торопится уходить. А я старалась к его приходу нажарить котлетки — я ведь знаю, что он любит мои котлетки. Отварить картошечки… А как он любил мои вареники с вишней! Что он сейчас кушает — ума не приложу… Он так плохо выглядел, когда приходил в прошлый раз…»

От неожиданности я вздрогнул. Прямо передо мной шлепнулся, подняв облачко пыли, засушенный пучок бессмертников.
— Промахнулся, — разочарованно произнес вслед хриплый голос.
— Ося, это ты?
— Я! Я! — ворчливо затараторила черная мраморная плита. — Остановись! Чо, фраер, не заходишь? Пробегаешь мимо, как будто взял взаймы миллион.
Я недовольно отбросил ногой букетик и подошел к ограде, за которой покоился старый приятель.
— Ты можешь что‑нибудь для меня сделать? — брюзгливо спросил он.
— Принести цветы?
— Плевать мне на них. Если цветы в тот же день не украдут, чтобы заново перепродать, через неделю они станут непригодны даже для веника.
— Чего же ты хочешь?
— Поговори со мной. Ты ведь знаешь мою жену?
— Фиру? Конечно…
— Раньше она прибегала каждое воскресенье, а сейчас приползает два раза в год — в день рождения и в годовщину смерти своей матери. Мои даты эта сука забыла! Она приходит с Арончиком — я их всегда подозревал, — постоит две минуты, лицемерно вздохнет и положит крашеные бессмертники. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не швырнуть их ей в морду! Ненавижу! Ее притворные слезы: «Бедный Ося, как он рано ушел». А потом уходит с ним трахаться. Потаскуха! Все бабы такие! Ненавижу! Видишь, слева наискосок вырядился в белый мрамор Долик Авербух?
Не оборачиваясь, я кивнул головой.
— Ты ведь знаешь, он был зубным техником. Здесь половина кладбища в его коронках лежит. Он вкалывал, как лошадь, но подонком тоже был знатным. Ничем не гнушался. Сонечка его никогда не работала. Домработница варила и стирала… А Сонька полдня спала, полдня по комиссионкам бегала. Пару раз, — захихикал Ося, — я отодрал ее в его же спальне. Но к его приходу Соня перевязывала голову платком, ложилась на диван и умирала: «Я так за день набегалась!» А этот дурак весь вечер крутился возле нее: «Сонечка, бедненькая, перетрудилась, у нас же есть домработница». И чай в постель, и конфетки… Он за месяц сгорел, оставив ей целое состояние. Ты думаешь, она у него бывает? Черта с два! По великим праздникам! Поставила шикарный памятник, чтобы родственники не злословили, наняла женщину для уборки, и поминай как звали.
— А к тебе кто приходит? Я вижу, у тебя убрано.
— Маня, — он секунд десять помолчал. — Она всегда была доброй женщиной. Ты знаешь ее?
— Нет, откуда?
— Фирина подруга. Она всегда была неравнодушна ко мне, но меня никогда не вдохновляли девочки с плоской грудью. Скажу честно, сейчас я ей благодарен. Не думал, что у нее такое доброе сердце и столько лет она будет со мной возиться. Я ведь здесь почти десять лет… Совсем молодым поселился. Ты не знаешь, она не собирается уезжать? — обеспокоенно спросил он.
— Я же сказал, что не знаю ее.
— Этого я и боюсь… — пропустил он реплику мимо ушей. — Здесь много брошенных памятников. Мы уже знаем: если приходят родители с детьми, с роскошными цветами, тщательно моют памятник, фотографируют, снимают на видео — все. Конец. Через неделю их в Одессе не будет. Сваливают. Кому‑то из нас везет. Их близкие нанимают женщину, и та приходит два раза в месяц. Порядок наводит. Но среди уборщиц есть такие халтурщицы… Нахватают заказов, заскочат, смахнут упавшие листья и бегут дальше. Видишь, напротив меня заросший бурьяном памятник?
Я обернулся.
— Так ему и надо! Я бы этому подонку при жизни не то что руку не подал — на одном пляже купаться не стал бы. А теперь вынужден на него постоянно глазеть. Если бы мог, я бы ему всю рожу заплевал. Слушай, сделай для меня милость, — заскулил он. — Подойди и плюнь за меня.
— Ося, прекрати. Ты ведь раньше не был таким озлобленным.
— Да, раньше… Думаешь, легко стоять здесь и в дождь, и в стужу? Всякое наприходит в голову. Особенно зимой. Боишься, что к тебе больше никто не придет. Послушай, выясни в синагоге, можно ли брошенные памятники вывезти куда‑нибудь? Есть же места на Северном, на Таировском… Может, кого‑нибудь возьмет Второе христианское? Этот тип никогда не был настоящим евреем. Чего я должен на него все время глазеть? Ты выясни, а… — захныкал он. — А то я боюсь. Это как эпидемия: сперва они придут в запустение. Потом — я.
— Хорошо, Ося, я выясню. Я пойду, ладно? У меня сегодня еще долгий маршрут.
— Постой секунду… Ты ни о чем не хочешь меня спросить? За десять лет я здесь всех знаю. Такого насмотрелся…
Я замялся.
— Разве что… Ты слышал что‑нибудь о Бэллочке Сокирянской? Она лежит на сто тридцать втором участке.
— Бэллочка? Та, что умерла при родах лет пятнадцать назад?
— Да.
— Конечно, знаю. Я танцевал с ней на свадьбе моей приятельницы. В тот день она была восхитительна, — мечтательно произнес он и насторожился: — А чего это ты о ней спрашиваешь?
— Она училась у мамы в классе. Рано вышла замуж и умерла при рождении сына. Ее муж, рассказывала мама, отдал малыша в дом малютки. Когда сыну исполнилось четыре месяца, он женился на женщине с ребенком и забрал малого.
— И это все? Весь твой интерес?
— Я помню ее день рождения. Ей восемь лет. Большой белый бант, как корона, царствует над ней, и я, приведенный мамой, стесняясь, мне все‑таки девять, сую ей книжку. Она берет меня за руку и ведет во вторую комнату к праздничному столу, украшенному стеклянными сифонами с сельтерской водой, фруктами и сладостями. Суетится папа‑фотограф (через несколько лет он бросит их ради другой женщины), дети читают стихи, получают подарки… Я вновь стесняюсь, когда подходит моя очередь, и она, подбегая ко мне, заглядывает в глаза: «Тебе правда весело? Идем танцевать!»
— Ой, ты прямо поэт. Я щас заплачу… Ладно, проваливай, — засуетился он вдруг. — Ко мне идет Маня. Подойди в следующее воскресенье, я все для тебя разузнаю. А сейчас вали.
— Ревнуешь? — ухмыльнулся я.
— На хрен мне тебя ревновать? Она на три года старше тебя. Ну иди, иди, она уже рядом.
Я махнул на прощание рукой и медленно побрел по аллее. Я не сказал Осе всей правды. Два года назад, когда я находился возле Бэллочкиного памятника, я вздрогнул, услышав за спиной: «Теперь ты знаешь, где лежит твоя мамочка». Я обернулся. Невысокий, слегка располневший мужчина средних лет и тщедушный мальчик застыли перед керамическим фото.
— Тебе исполнилось тринадцать лет. По еврейским законам ты считаешься взрослым. Даже можешь жениться. Только мамочки на свадьбе твоей не будет. Твой день рождения — день ее смерти. Возьми, — он протянул сыну бидончик с водой. — Учись ухаживать за памятником. Раньше, как ты ни просил, я тебя с собой на кладбище не брал. По закону не положено. Теперь можно.
С тех пор я их больше не видел. И лишь по всегда чистому памятнику, отсутствию пробивающихся сквозь мраморные плиты травинок, сухих веток и прилипших после дождя листьев отмечал: недавно они ушли.
Но недаром я затеял с Осей разговор о Бэллочке. Уже полгода как памятник преобразился и паутина заброшенности осела на решетках ограды.
Через неделю я прийти не сумел — не всегда получается выбраться. Пропустил и вторую. И третью. Шестого июня, в мамин день рождения, на скорбном своем маршруте привычно отметил: у Бэллочки опять никого не было.
— Ну ты паразит! — зашипел на меня Ося, когда я приблизился. — Не мог прийти раньше!
— Послушай…
Ося не дал договорить и затараторил:
— Плевал на твои отмазки! Я все для тебя разузнал. Муж ее отказался уезжать — не мог оставить памятник. А вторая его жена разошлась с ним, забрала своего и его ребенка, которого с пеленок растила, и укатила в Австралию. Его же после их отъезда хватил удар. Скорая увезла его прямо с кладбища. Говорят, он вновь научился ходить и скоро появится здесь. Вот только речь его медленно восстанавливается.
* * *
Восьмой год я в Америке. Поезд сабвея проносится по Макдоналдс‑авеню мимо еврейского кладбища. Склепы, гранитные обелиски мелькают в вагонном окне. В отличие от одесского нью‑йоркское кладбище обнажено — ни деревьев, ни кустов… Ухоженные аллеи. Тишь. Благодать…
Но как только поезд приближается к станции «Бэй‑Парквей», как и прежде, назойливо сверлит голову цветаевское: «Кладбищенской земляники крупнее и слаще нет». И думами я возвращаюсь в Одессу… С волнами эмиграции прервалась на одесском кладбище связь поколений. Как вы там, милые? Как пережили зиму? Простите, что не забрали с собой… Простите, если можете…
«В сем христианнейшем из миров»
Диптих
Над Успенской, в квартале от Маразлиевской до Канатной, фиолетовые облака. Розовые дома и оранжевые деревья. Голубые листья касаются балконных перил и соскальзывают на пол.
— Нюмка! Что ты видишь?!
Нюмка смотрит вниз на прыгающего вокруг дерева Левку, суетливо, пытаясь взлететь, взмахивающего руками, и кричит: «Не будь курицей! Оторвись уже от земли!»
Ветка, на которой Нюмка сидит, заглядывает в окно Ривочки Кацер. Окно ее расположено на третьем этаже, справа от сиреневого балкона, над которым в любое время года развеваются розовые панталоны ее мамы. Но не ради любви к искусству Нюмка облюбовал эту ветку: он ждет Риву.
Взлететь ему ничего не стоит — надо только захотеть. Стоит только раскинуть руки, опереться на воздух и, разбежавшись, оторваться от земли. Нюмка парит над школой, то опускаясь на завистливо задранные головы одноклассников, то легким взмахом кистей набирает высоту и круг за кругом облетает свою территорию.
Когда Нюмка чувствует усталость, а иногда и просто так, он садится на ветку напротив Ривочкиного окна и ждет возвращения ее со школы.
— Нюмка! — полуобхватив ствол, пытается вскарабкаться на дерево Левка. — Возьми меня к себе!
Нюмка не реагирует.
Затаив дыхание, он следит за Ривой. Как снимает она школьную форму, вешает на плечики и закрывает в платяном шкафу. Как надевает сарафан и, не дожидаясь, пока ее мама, огромная — в три обхвата — Берта Абрамовна, позовет к столу, выдергивает с полки книгу и ложится на диван.
Берта Абрамовна заходит в комнату. Нюмка тяжело вздыхает: как у такой тоненькой Ривы может быть такая толстая мать?! — и, не выдержав криков ее: «Что за ребенок на мою голову! Данэ киндер золн азой эсэн!» — стреляет из рогатки в едва прикрытый передником огромный живот.
Берта Абрамовна глотает на полукрике воздух, хватает обеими руками живот, как бы опасаясь растерять его, но живот, к Нюмкиному изумлению, не лопается, а пришедшая в себя после секундного замешательства Берта Абрамовна выскакивает на балкон, все в тех же розовых панталонах и мини‑переднике, скорее слюнявчике, на голом, лопающемся от жира теле, и машет ему кулаком: «Я тебе так стрельну, что тебе будет больно на всю оставшуюся жизнь!»
Нюмка взмахивает руками и улетает, не желая преждевременно ссориться с будущей тещей.
— Нюмка! — весело кричит вслед ему рыжее солнце, круглосуточно пялясь на сиреневый балкон Ривы. — Аза юр аф дир!
— Азой? — смеется в ответ Нюмка и летит домой.
Над Успенской, в квартале от Маразлиевской до Канатной, фиолетовые облака. Розовые дома и оранжевые деревья. Голубые листья касаются балконных перил и соскальзывают на пол…

* * *
Двадцать пятого октября Нюмка взлететь не смог. Простреленная рука болела, и он придерживал ее, искоса поглядывая на мать. Закутанная в одеяло полугодовалая Бэллочка понимающе молчала. Мама часто перекладывала ее с руки на руку, и Нюмке было стыдно, что так не вовремя румын прострелил ему руку.
Впереди тяжело брела Берта Абрамовна. Ее дважды уже стукнули прикладом по спине, и она, бросив в пыли Люстдорфской дороги чемоданчик и наваливаясь всей тяжестью на хрупкую дочь, старалась не отставать.
Над Люстдорфской дорогой коричневые облака. Черные дома и багровые деревья. Белые листья саваном покрывают исчезающий в пыли караван…
— Нюмка, — быстро шепчет ему мама, — пока не поздно, бери Бэллочку и лети.
Он виновато молчит, с опаской поглядывая на ленивых палачей, и плачет, поддерживая обессиленную руку.
Резкий выстрел спугнул оцепеневших ворон.
Берта Абрамовна, за несколько мгновений до этого упав на колено и, несмотря на старания дочери, безуспешно пытавшаяся встать, рухнула в грязь. Растолкав впереди идущих, Нюмка подбежал к Риве и, здоровой рукой схватив ее за пальто, оттащил от матери.
Солдаты засмеялись, не став препятствовать легкой толкотне.
Впервые Нюмка прикоснулся к ее руке, впервые, не стыдясь, держал девочку за руку и, пытаясь вдохнуть силы в безжизненную руку, старался утешить ее: «Щас, потерпи, Ривочка, щас… Щас мы полетим…»
Он так и не смог взлететь и сгорел живьем в огромном помещении зернового склада, легко поглотившем в небо вознесшийся караван, и черное солнце, покрытое толстым слоем пепла, тупо повторяло: «Аза юр оф дир», — и роняло слезу. Черную. На сиреневый балкон. Розовые дома. И оранжевые деревья. 

Израильские рассказы

The Times of Israel: Одесские евреи выступают против строительства, которое может разрушить историческую синагогу

