[parts style=”text-align:center”]
[phead]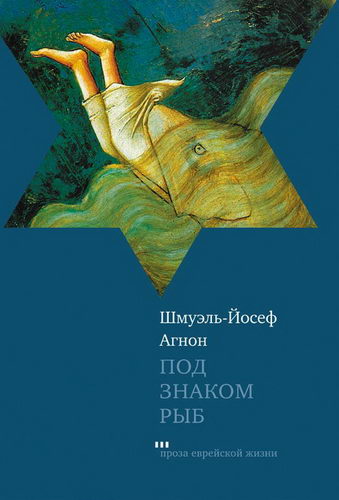 [/phead]
[/phead]
[part]
Бесконечное настоящее
Шмуэль‑Йосеф Агнон
Под знаком рыб
Перевод с иврита Р. Нудельмана и А. Фурман. М.: Текст, Книжники, 2014. — 349 с. (Серия «Проза еврейской жизни».)
Было время, когда рецензенты и даже авторы предисловий хвалили еврейских авторов за то, что они не такие уж и еврейские: не замыкаются‑де в кругу узконациональных проблем, а пишут об «общечеловеческом». Сейчас еврейской специфики вроде бы перестали стыдиться. Но зато выработались досадные стереотипы, с одним из которых мы сталкиваемся в предисловии к книге рассказов Ш. Агнона, написанном переводчиками — Р. Нудельманом и А. Фурман:
…Позади него — безвозвратно уходящий мир: стройное здание коллективного еврейского прошлого, скрепленного вековечными законами Торы, мудрой традицией, мучительным опытом многовекового рассеяния. Теплый мир детства, радостный мир юности, знакомый отчий мир. Агнон всматривается в него с любовью и тоской. Он ощущает его неизбежный уход как личную и национальную трагедию. Он хотел бы передать горький и радостный опыт своей жизни новому времени и новым людям, но им этот опыт непонятен и не нужен. Драгоценная книга многовекового знания утрачена. Иногда Агнон думает, что он, быть может, последний, кто призван сохранить ее буквы, ее слова, ее речь.
Такая картина мира характерна для еврейской литературы XX века — особенно для литературы на идише. Трагедия прошлого, которое не может передать себя будущему, присутствует у таких разных авторов, как Башевис Зингер и Граде. Но как раз у Агнона, во всяком случае в тех произведениях Агнона, которые вошли в книгу, ее нет. В отличие от писателей‑идишистов, он пишет на языке, имеющем прочное настоящее и обеспеченное будущее, он живет в стране, где чтение Торы и соблюдение кашрута — такая же бытовая вещь, как хамсин. Прошлое, в том числе тысячелетнее, присутствует там в бесконечном настоящем, как и эсхатологическое будущее.
Лавочники закрывают свои лавки и добавляют замок к замку по причине воров, которые размножились в Иерусалиме. Несутся по улицам автомобили, и, под стать им, несутся прохожие, протискиваясь на бегу сквозь толпы женщин, торгующих всякой мелочью, и мужчин, продающих веники и метлы, и нищих, стоящих с протянутой рукой, и музыкантов, играющих на флейте, и всевозможных реформаторов мира, и разных безумцев с безумицами, и вихрастых подростков, развешивающих объявления, и степенных продавцов, выкрикивающих низкие цены, и тут же крутятся в этой толпе собаки, потерявшие своих хозяев, и хозяева, потерявшие своих собак… А граммофон вопит: «Как прекрасны шатры твои, Иаков», — а напротив радио поет: «Как счастлив ты, Израиль».
Более того: даже Холокост в этом мире не воспринимается как нечто окончательное, рубежное, роковое. Это просто очередные гонения, очередные убийства, выгнавшие очередную группу евреев из Европы и способствовавшие ее восхождению в Страну. Экзистенциальный фон житейских конфликтов оказывается на первый взгляд даже чрезмерно благополучным для литературы XX века — особенно для еврейской. Это ощущение возникает при чтении реалистических любовных рассказов «Развод доктора» и «Песчаный холм».
Другое дело рассказы‑притчи. Драматизм придает им проблематизация самого жанра. Только один из включенных в книгу рассказов такого типа — «С квартиры на квартиру» — обладает связным, завершенным сюжетом, из которого можно извлечь некую «мораль». Да еще «Вечный мир» — политический текст со сравнительно легко читаемым ключом. Во всех остальных случаях и притчевый сюжет, и стоящая за ним картина мира подвергаются если не «деконструкции», то искажению в некоем кривом зеркале. Проще всего, если перед нами (как в заглавной повести «Под знаком рыб») просто тонкая пародия на благочестивую хронику — со множеством литературных отсылок: и к мировой литературе (не столько к Гоголю, упомянутому в предисловии, сколько к Рабле и Стерну), и к еврейской традиции — но тут жалеешь, что книге не хватает глубокого и подробного комментария. Страннее, а может быть, и многозначнее «Целая буханка», где спор за душу героя двух персонажей, явно олицетворяющих добро и зло, обрывается на полуслове. Или «Письмо», где странный диалог рассказчика (то ли это alter ego автора, то ли «старинный» еврей чуть ли не из квартала Меа Шеарим, — между прочим, одна из житейских масок Агнона) и покойного господина Кляйна (не то благодетеля страждущих, не то лицемера) идет на фоне хронологически прозрачного, разновременного Иерусалима. Или такие рассказы, как «К доктору» или «Документ», в которых кафкианская антипритча (стилистическая база тут очевидна) превращается в некий сон без конца и начала. Или рассказ «Навсегда» — притчу с неожиданным реально‑историческим ключом (и это, кстати, единственное во всей книге место, где тема Холокоста звучит в полный голос).
Последний рассказ мог (по сюжету) сойти с пера Борхеса. Но стилистически трудно найти авторов более далеких, чем Агнон и Борхес. Притчевая структура рассказов Агнона неразрывно связана с природой языка, библейского по генезису, для которого притча — наиболее естественный вид нарратива. Переводчики стараются передать это — в основном удается хорошо. Стоит ли привлекать внимание к их огрехам — скажем, к чудовищному слову «простолюдье» или к роману Арцибашева «Санин», превратившемуся в рассказ (для русского переводчика странная ошибка!)? Все же мы о них упомянули — может быть, в следующем издании их решат исправить.
[author]Валерий Шубинский[/author]
[/part]
[phead]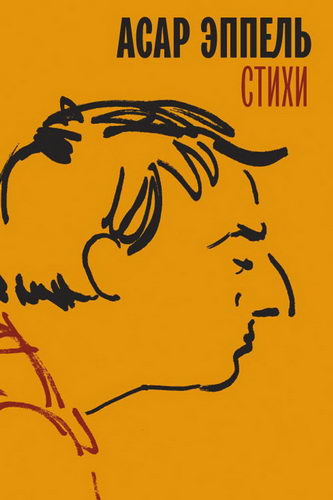 [/phead]
[/phead]
[part]
Книга, которой могло не быть
Асар Эппель
Стихи
Составление, текстологическая подготовка Вадима Перельмутера. М.: ОГИ, 2014. — 272 с.
Выход книги стихов Асара Эппеля — безусловно, событие, поскольку возвращает русской литературе интересного, самобытного поэта. Читатель знает Эппеля как прозаика, эссеиста, переводчика, редактора серии «Проза еврейской жизни», сочинителя советских шлягеров, но не как автора замечательных стихов, что, впрочем, и не удивительно. Хотя поэт писал всю жизнь, прижизненных публикаций было крайне мало — всего две, а первое публичное чтение состоялось 30 марта 2006 года. Не считая, конечно, случая в конце 1960‑х, о котором пишет Вадим Перельмутер в предисловии к книге: когда Асар Исаевич под видом переводов вдруг стал читать свои стихи и был тут же разоблачен Аркадием Штейнбергом. Тем значительнее книга, вышедшая в издательстве ОГИ, поскольку она дает понять, что перед нами не «стихи прозаика», то есть нечто маргинальное и второстепенное по отношению к прозе, а еще одна грань литературного гения Асара Эппеля.
«Сквозь его многообразные литературные занятия стихи прошли пунктиром» — это важное замечание составителя: не только для определения того места, которое занимало написание стихов в жизни Асара Эппеля, но и для понимания его прозы и переводов. «Многие прозаики начинали стихами… — продолжает Вадим Перельмутер. — Но есть прозаики, они довольно редки, которые бывали поэтами и потом, некоторые — всю жизнь, сколько бы она ни длилась. Иван Бунин и Валентин Катаев, Владимир Набоков и Юрий Олеша…» Асар Эппель — из них.
Субъект поэтической речи Асара Эппеля родственник лирическому «я» Льва Лосева — этакий рефлектирующий интеллигент, относящийся к миру не без иронии, но в то же время предельно серьезно. Говорить о взаимовлиянии не приходится, поскольку вряд ли эти два автора могли читать друг друга в 1960–1970 годах, тем удивительнее сходство интонационного строя. Но у Эппеля субъект речи сложнее уловить, он не укоренен, а растворен в окружающей его действительности:
Толченым кирпичом надраен,
Заштатный месяц плыл в ночи.
Звенел латунный таз окраин
От обывательской мочи.
Это взгляд изнутри, жителя этой самой окраины, видящего и слышащего именно таким образом.
У Эппеля есть и абсолютно импрессионистические стихи:
Сыро…
Плохо…
Глухо…
Серо…
Вспыхнет спичечная сера,
осветив несветлым светом
на тарелке хлеба корки
и упрятав на мгновенье
мглу в углу, в мышиной норке…
Эппель широкими мазками создает фон (Сыро… /Плохо… / Глухо… / Серо…), а затем начинает выписывать предметы, причем цвет и свет для поэта очень важны: серо… спичечная сера… несветлый свет. Или в другом стихотворении:
Золотые бабочки ночные
Бьются о сверкающую лампу,
Торопясь, обламывают лапы,
Мажут лампу мягкою пыльцой…»
Двух определений достаточно для того, чтобы картина ожила и заиграла.
Взгляд Эппеля останавливается порой на вещах на первый взгляд обыденных, на которых остановился бы взгляд далеко не каждого поэта:
Дитя удивлено осой —
Оса кидается и вьется,
Дитя боится и смеется,
Оса метнется и уймется,
Блеснув оранжевой красой.
И тут же постулирует:
Мир взгляда мал,
Но сколько в нем всего!
Здесь сказывается опыт Эппеля‑прозаика, внимательного к детали.
Асар Эппель пытается привить «классическую розу к советскому дичку», примешав к ним жаргонную речь, недаром в стихотворении «Исток» он пишет:
И двуязычьем обработан,
Себя к нездешнему креня,
Подросток сей по фене ботал,
И превращал себя в меня.
Но жаргон появляется в стихах Эппеля не часто: «И Никола откадил Морской», «В купальщиц голых втюрен / Шальной июль‑кустарь…» Жаргон придает стихам оттенок и колорит, но чаще — это игра в жаргон:
День, как белая невеста,
Ночь, как фрак на аферисте,
На Привозе за бесценок
Приобрел трубу архангел…
Кто вышел прогуляться,
Но обратно не вернется.
Кто‑то спросит старый адрес,
Но ответа не запомнит…
Молдаванка…
«Советский дичок» прорывается в поэтический мир против воли автора, но понимая, что от этого никуда не деться, поэт вписывает его в общую картину:
Велеречивый, как обэриут,
вмешался диктор в тихий мой уют
и сообщил, что в закрома ячмень
ссыпает расторопная Тюмень…
Эппель констатирует, что языковая ситуация обэриутовской игры вдруг стала серьезнейшей реальностью, а переправа в иной мир вдруг оборачивается абсурдным экзаменом по политграмоте:
А лодочник по Стиксу подплывет
и, ничего не взяв за перевоз,
задаст мне любознательный вопрос —
действительно ли в закрома ячмень
ссыпает расторопная Тюмень,
и правда ли, что жители Тамани,
как встарь японцы, носят член в кармане.
Эппель играет не только с языковыми пластами, но и со звуком. Вадим Перельмутер пишет: «Он проверял свою прозу на слух. Сохранились диктофонные записи с записями рассказов». Это внимание к точности звука словно заставляет Эппеля в поэзии всему обратиться в слух, он играет с фонетикой:
То ли база,
То ли лабаз.
Грузчик‑плут узкоглаз и лобаст;
и олифу,
и алебастр / за пол‑литра налево отдаст…» В данном случае поэт максимально использует возможности парономазии.
Или такое:
Нил чернил на карте Нил,
не жалеючи чернил;
а Ненила рядом ныла:
— Не расходуй,
Нил,
Чернила!..
Возможности фонетической игры Асар Эппель в полной мере продемонстрировал в лимериках:
Утверждают, что Лопе де Вега
на исходе ХХ века
был известен Европе
не за то, что он Лопе,
а за то, что воспел человека
Подчас комический эффект усиливается за счет анжамбемана:
Утверждают, что Джон Голсуорси
тщился слыть корсиканцем на Корси‑
ке. Спросят: “Вы корс‑
иканец?” — “Of course!” —
отвечал он и в общество втерся.
У Эппеля в стихах происходит «то детское открытие, постижение, восприятие языка, его переливчатости, переменчивости, возможностей перехода из игры звуковой в звук—смысл», и он приглашает присоединиться к этой игре читателя, которому наконец стали доступны стихи Асара Эппеля.
Сборник иллюстрирован архивными фотографиями, в оформлении обложки использован рисунок писателя Михаила Ушаца.
[author]Мария Нестеренко[/author]
[/part]
[phead]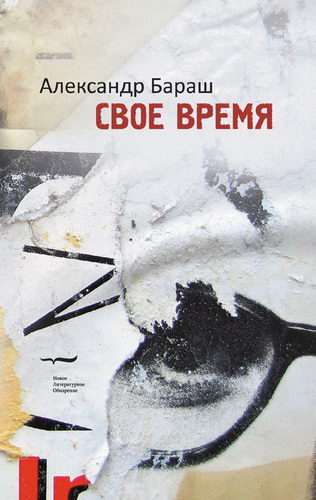 [/phead]
[/phead]
[part]
Принципиальный частный взгляд
Александр Бараш
Свое время
М.: НЛО, 2014. – 176 с.
«Свое время» — вторая автобиографическая книга Александра Бараша. Первая, «Счастливое детство», вышла восемь лет назад и, как нетрудно догадаться, посвящена детским годам автора. Как видим, оба текста названы тем или иным расхожим выражением, которое должно значить слишком много, а на деле не значит ничего: в повседневной речи «счастливое детство» уже давно приобрело иронический оттенок и не вызывает ассоциаций со своим кошмарным первоисточником, а эвфемизм «свое время» лишь подчеркивает зависимость личности от социального порядка, из которого и выделяется это самое свое или, как еще говорят, свободное время (кроме того, оно связано и с проблематикой памяти, что имеет самое непосредственное отношение к прозаическим книгам Бараша). После прочтения этих текстов становится ясно, что уже в названии заложен конфликт, значимый для прозы Бараша: исследование себя на фоне пунктирно выписанных реалий позднесоветского времени. По словам Данилы Давыдова, Бараш «расставляет дополнительные смыслы на том поле, где уже практически все устроено»: имеется в виду некоторое представление о различных периодах жизни человека, обретающего в этой прозе конкретность именно на позднесоветском материале. При разговоре о нем Бараш не скрывает некоторой брезгливости, но ностальгическая нота и стремление к интроспекции побеждают: «Выйти из метро на “Баррикадной”, подняться по улице мимо сталинской высотки, перейти Садовое кольцо у место его впадения в Площадь Восстания, слева Замок Дракулы — особняк Берии… и по узкому тротуару — к колоннам Дворца Снежной Королевы, то бишь советской литературы, где из осколков разбитого зеркала русской революции, отражающего действительность, данную нам в ощущении отмороженности, бывшие мальчики Каи, украденные у своих ненаписанных настоящих книг, пытаются сложить слово “соцреализм”».
Цитируемые слова — о литературных утренниках в Центральном доме литераторов, где юный Александр Бараш получил первое представление о литературе. Оно, так сказать, явилось в лицах наблюдаемых им «живых поэтов», классиков советской литературы Павла Антокольского и Давида Самойлова, в чьи ряды затесалась и Олеся Николаева. Надо отметить, Бараш вовсе не дистанцируется от советской поэзии, но рассматривает ее вершинные достижения так же внимательно, как и тексты неподцензурных авторов. Позднее Бараш проходит все причитающиеся автору 1980‑х годов этапы, скажем так, творческого пути: литературное объединение «Магистраль», в котором «было тихо и покойно, как в провинциальном буфете», литературные салоны (так называется одна из глав) и, наконец, широкий контекст неподцензурной словесности конца 1970‑х и 1980‑х годов. Бараш не стремится к обобщениям, но и не пытается избавиться от аналитического взгляда, пусть и подчеркнуто частного, как говорил другой автор, примерно в то же время двигавшийся по направлению к Нобелевской премии. По сути, «Свое время» — это (еще один) частный взгляд на литературную эпоху, чьи следы практически неразличимы, но еще не стали предметом пристального исследования. Почти все упомянутые фигуранты так или иначе прославились, некоторые вовсе исчезли из публичного поля. Что касается самого Бараша, то удивительно, насколько не совпадают его ранние тексты и сегодняшние стихи: кажется, ничего не предвещают в циничных, инкрустированных элементами соц‑арта и, будем честны, откровенно слабых текстах пронзительных и внимательных стихов 1990–2000‑х, собранных в книгах «Панический полдень» или «Итинерарий». Разумеется, автором проделана огромная внутренняя работа, биографической (внешней) рамкой которой является отъезд в 1989 году в Израиль, ставший — наряду с местными no man’s land — основным фоном для его зрелых текстов (в частности, «Мы шли по щиколотку в малахитовой воде» и «Кофе у автовокзала», приведенных в книге).
Отдельно стоит сказать и о другой теме, возникающей в книге «Свое время». Речь идет о намечавшемся взаимодействии между неподцензурной поэзией и рок‑культурой: одна из глав посвящена краткому анализу творчества и имиджа таких разных представителей «русского рока», как Борис Гребенщиков и Петр Мамонов, чьи «квартирники» Бараш проводил в 1980‑х годах. Примерно в то же время состоялось и его знакомство с Олегом Нестеровым: немного игривые, но не лишенные трагизма тексты Бараша очень кстати подошли к «хорошо сделанной» музыке группы «Мегаполис». Надо сказать, что это сотрудничество продолжается по сей день.
[author]Денис Ларионов[/author]
[/part]
[/parts]

The Free Press: Мир, созданный фетвой

Католический костел в Польше и евреи, польские евреи и костел

