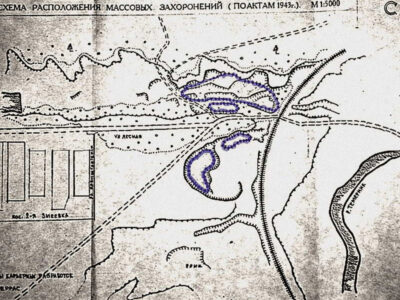Жанр биографии по-прежнему на подъеме. Значимых книг появляется все больше: возможно, настало время обозначить тенденции в развитии жанра. Мы попросили авторов биографических работ Олега Лекманова, Владимира Березина, Максима Чертанова, Александра Ливерганта, Анну Сергееву-Клятис, Валерия Шубинского, Ирину Лукьянову поделиться своим опытом — рассказать о том, как они встраивались в уже существующую традицию, как трактовали трудные вопросы (от происхождения героев до их политических взглядов), предпочитали «разноцветный» или «черно-белый» портрет.
[parts style=”clear:both;text-align:center” type=”text” width=”120px”]
[phead]
Олег Лекманов
[/phead]
[part]
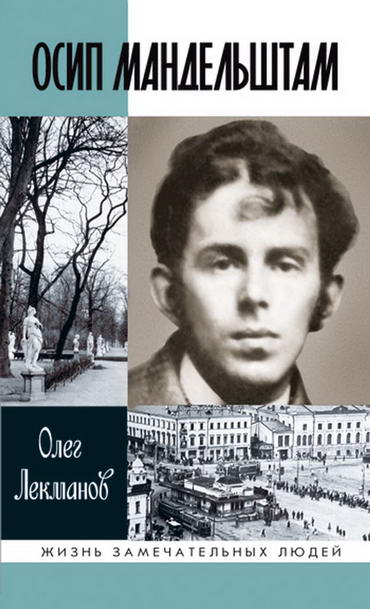 Я думаю, что единого рецепта написания биографии нет и быть не может. Есть биографическая книга Михаила Булгакова о Мольере, и есть биография самого Булгакова работы Мариэтты Чудаковой — это два совсем не похожих друг на друга текста, но оба они в своем роде образцовые. То же можно сказать о биографиях Бориса Пастернака, написанных Дмитрием Быковым, Лазарем Флейшманом и Евгением Борисовичем Пастернаком.
Я думаю, что единого рецепта написания биографии нет и быть не может. Есть биографическая книга Михаила Булгакова о Мольере, и есть биография самого Булгакова работы Мариэтты Чудаковой — это два совсем не похожих друг на друга текста, но оба они в своем роде образцовые. То же можно сказать о биографиях Бориса Пастернака, написанных Дмитрием Быковым, Лазарем Флейшманом и Евгением Борисовичем Пастернаком.
Поэтому буду говорить только о собственном опыте, (почти) не претендуя на какие бы то ни было обобщения.
Итак…
Первое правило, которого я придерживался, когда составлял биографии Мандельштама, Есенина и Николая Олейникова (две последние — в соавторстве с Михаилом Свердловым): не брать на себя роль напыщенного адвоката или прокурора своего героя, пытаясь любой ценой оправдать или осудить его поступки. Те три поэта, о которых я рассказывал, были очень крупными, обаятельными и неординарными людьми, они сами, без моей помощи способны «объясниться» с потомками («Я сам расскажу о времени и о себе»), моя же задача состояла, прежде всего, в том, чтобы грамотно и интересно скомпоновать материал. Я всегда смотрел на своих героев снизу вверх, не пытаясь с ними соревноваться и помня, что они Поэты, а я всего лишь (почти технический) посредник между ними и читателями.
Отсюда второе, святое для меня правило: сознательная отстраненность от своего героя и даже подчеркнутая холодноватость моего авторского тона. Более того, чем драматичнее и трагичнее становились описываемые события, тем бесстрастнее я старался о них говорить. «Осип в последний раз посмотрел на Надю…», «Сергей трясущимися руками закрыл щеколду и…», «Николай Макарович оглянулся на родной ленинградский дом…» — я в страшном сне не могу вообразить, что когда-нибудь набью на клавишах ноутбука что-нибудь подобное. Разве что с ума сойду. Вот за эту холодность тона мои книги (особенно биографию Мандельштама) иногда ругали темпераментные читатели, но нашлись и те, кто такую отстраненность оценил высоко, в частности покойный Михаил Леонович Гаспаров (чем я, конечно, горжусь).
Третье правило, которым я руководствуюсь, работая над биографией: суждение любого современника если не свято, то уж, во всяком случае, много весит. Кроме того, автор биографии обязан вручить своему современнику (чаще всего — утерянные) ключи к пониманию реалий и обстоятельств времени, о котором он пишет. Это не значит, конечно, что все свидетельские показания равнозначны, но все они должны быть учтены и по возможности приведены в биографической книге. Иногда даже и авторского комментария не нужно — положил рядом два рассказа об одном событии, дополнил суждением самого героя, а еще лучше — отрывком из его текста, поводом к созданию которого стало описываемое событие, — и готово дело. Так мы, опять-таки, уберегаемся от прокурорских или адвокатских функций, да очень часто и невозможно установить, как все было на самом деле. Попробуйте проделать простой эксперимент: порасспросите через неделю, например, после празднования своего дня рождения своих же друзей — чтó они расскажут об этом славном событии? Ручаюсь, рассказы совпадут процентов на 30% (и то хорошо будет), и это только при сухом описании событий. А уж если интерпретировать начнут…
И все же, и все же: каждый, кто берется за написание филологической работы, а уж за составление биографии тем более, в какой-то мере держит экзамен на Шерлока Холмса или лорда Питера, на худой конец. В его задачу входит сопоставить разнородные факты и концептуализировать их, обнаружить и продемонстрировать читателю внутреннюю связь во внешне немотивированных, хаотических «трудах и днях» своего героя. Важно только (и это четвертое правило) не шулерствовать, не подтасовывать события в угоду собственной концепции. И тогда вы, наверное, сможете открыто и прямо посмотреть в глаза любому, пусть и самому недоброжелательному рецензенту.
[/part]
[phead]
Владимир Березин
[/phead]
[part]
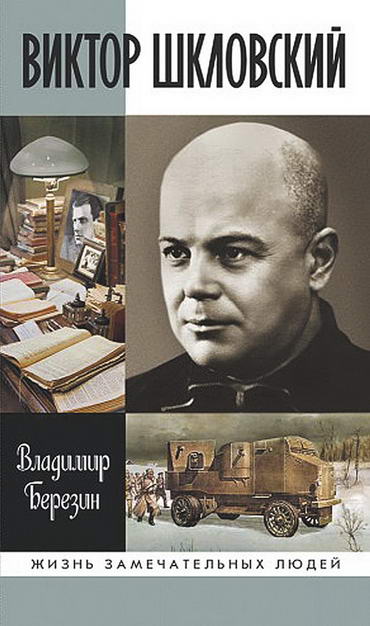 Казенная сказка
Казенная сказка
Биографический жанр — один из немногих, в котором часто присутствует заказчик.
Я бы вообще разделил биографии на казенные и проросшие самостоятельно.
Это ровно ничего не говорит о качестве текста. Может возникнуть прекрасная книга на деньги безликой государственной структуры, и, наоборот, поклонник знаменитости вдруг окажется творцом глуповатого текста: его восторг был внутренним, не передающимся через книжные страницы. Часто и язык такой книги внутренний, рассчитанный на сектантов-любителей.
В обоих случаях есть свои опасности.
Что касается «народной биографии», то ее главная беда только что обозначена, а вот казенная биография, очевидно, страдает оплаченным подобострастием.
Речь не об отъявленных халтурщиках (их разбирать неинтересно, они, как говорил Ильф, даже пишут одним почерком). Речь идет о честном человеке, рассказывающем чужую историю, у которого включается внутренний цензор. Как описать странную ситуацию, неоднозначный выбор своего героя, а то и вовсе гадкий поступок — ведь обидится заказчик.
Или расстроятся ветераны: как так командир напился и наломал дров?! Наломать-то он наломал, они помнят сами, но испытывают от этого напоминания чувство обиды.
Ровно то же самое может случиться и при общении с родственниками.
Автор биографии умершего двести лет назад персонажа тоже не свободен от этого давления.
Оно исходит от потомков, а то и просто земляков героя.
Или есть давление, связанное с национальностью.
Есть закономерное желание в рамках всякого патриотизма считать гениев родными по крови, а негодяев — людьми особой, невесть откуда взявшейся расы.
Я бы, к примеру, написал честную, без прикрас, биографию Лазаря Кагановича. С детством в деревне, с «шахтинским делом», с расстрельными списками, с паровозами и всем остальным. Но — важная оговорка — мне интересна не публицистика, а литература, то есть история и мотивы такого героя. Не оправдание или обвинение, а художественный анализ.
Об особом интересе к еврейству и говорить не приходится — как известно, пророка Самуила, от лица которого вещал Остап Бендер, сразу же после насущного вопроса о подорожании животного масла, спрашивали: «Еврей ли вы?»
Но это есть и в других народах, особенно в тех, в которых национальная идентичность не так видна в большом мире. Вот представим себе модель: на каком-нибудь горном пространстве (или среди тайги и болот) живут хорошие люди. У них есть герой — музыкант, писатель и снайпер. Он родился среди них, но был, скажем, русским — у честного и гордого народа есть желание видеть его своим, или они хотят видеть своего соплеменника изобретателем всего. И вот автор казенной биографии начинает умалчивать о каком-то документе, додумывать обстоятельства, честно говоря — подвирать.
С одной стороны, этот биографический жанр финансируется именно национальными структурами.
Спасти тут может хороший вкус, именно что талант биографа.
Это касается не только личных историй — можно представить прекрасную книгу о почтальонах, сделанную на деньги Департамента почт, и легко — скучную книгу о полярниках, написанную по зову сердца.
Меня спрашивают: «Нужно ли стремиться к “разноцветному” портрету или важнее сделать его четким, черно-белым?» — и я ощущаю, что это вопрос с двойным дном.
Интуитивно хочется сказать, что цветное всегда лучше черно-белого, так говорят люди вроде меня, смотревшие в детстве черно-белые телевизоры, но потом дорвавшиеся до цветных. Но что лучше: гравюра Дюрера или цветной постер? Не все так просто — причем биографа и тут будут дергать за руки.
К примеру, вот есть история Лили Брик (я бы тоже написал о ней, что и говорить).
У всякого издателя она будет пользоваться повышенным спросом, потому что это некий эротический символ.
Эротика всегда продается лучше, тут нет никакого секрета.
Но куда бы интереснее было понять, как был устроен быт того времени, что было естественным и что неестественным в поведении женщины.
Один французский историк сказал, что он отдал бы все декреты Конвента за одну приходно-расходную книгу парижской домохозяйки. Имелось в виду то, что официальные документы известны по энциклопедиям, а мелкая моторика чужой жизни известна мало. А ведь именно она определяет поведение человека, даже его нравственные выборы.
Общественный интерес смещается к быту — как ели, как грелись, что было подложкой того героического или творческого, что было с людьми прежних времен.
Я и сам хорошо помню быт советского времени, и он был таким компонентом биографий, что игнорировать его невозможно.
Сами биографии как тип повествования, я считаю, будут только множиться.
Конечно, в силу демократического спроса огромный вал жизнеописаний будет посвящен тому, кто с кем спал, в них будут казенные бубны и прочее лукавство.
Есть два очень важных начала, и я очень бы хотел, чтобы они получили особое развитие.
Во-первых, это частная жизнь человека, жизнь не генерала, а солдата. Этот корпус текстов уже есть и растет. Солдат тут больше, но водители трамваев ничуть не хуже, тем более многие из них когда-то дрались с врагами от Белого моря до Черного.
Во-вторых, это провинциальные биографии. Их сейчас часто пишут неловко, но в них есть важная функция.
Все живут по-разному, отличиями прирастает страна, в дельте Волги биографии имеют один оттенок, а в Благовещенске — другой.
Но итог зависит от того, как обо всем этом рассказать.
[/part]
[phead]
Максим Чертанов
[/phead]
[part]
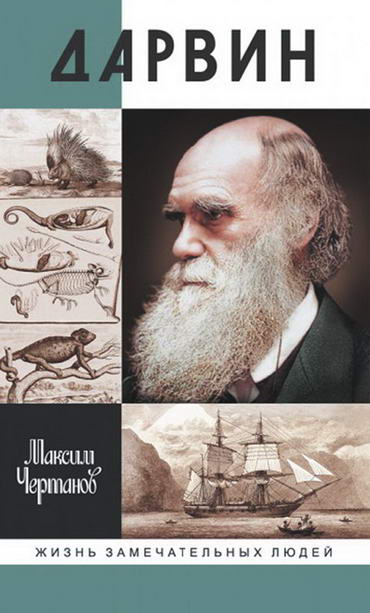 Любая биография начинается с происхождения героя; тут, на мой взгляд, не должно быть никаких умолчаний и «смягчений». Характер человека во многом определяется генами и воспитанием, которое он получил в раннем детстве. Иногда он определяется «наоборот»: так, один из моих персонажей, Конан Дойл, был сыном алкоголика и именно поэтому не брал в рот ни капли спиртного. Вдвойне интересно, когда родители (или деды) героя сами были выдающимися людьми: тут можно проследить, что от кого он унаследовал.
Любая биография начинается с происхождения героя; тут, на мой взгляд, не должно быть никаких умолчаний и «смягчений». Характер человека во многом определяется генами и воспитанием, которое он получил в раннем детстве. Иногда он определяется «наоборот»: так, один из моих персонажей, Конан Дойл, был сыном алкоголика и именно поэтому не брал в рот ни капли спиртного. Вдвойне интересно, когда родители (или деды) героя сами были выдающимися людьми: тут можно проследить, что от кого он унаследовал.
Разумеется, без упоминания национальности персонажа тоже никак не обойдешься, и она важна, так как каждый народ (так я считаю) имеет свой особый менталитет; он накладывает отпечаток на характер героя, даже если сам герой этот менталитет отвергает — так было, например, с Хемингуэем. Мне приходилось писать об англичанах, американцах, французах — и у всех этот отпечаток был очень явным. Сейчас я пишу об Эйнштейне, и тут уж никак без подробного разбора «еврейского вопроса» не обойтись. Во-первых, грубый антисемитизм, с которым он неожиданно и резко столкнулся в раннем детстве, по моему мнению, частично сформировал его характер, сделав из тихого мальчика упрямую, резкую «колючку». Во-вторых, для него «еврейский вопрос» был важен ничуть не меньше, чем физика. Он очень остро осознавал свою чужесть для людей, среди которых жил. Он был открытым сионистом, написал на эту тему массу статей, он называл евреев «инопланетянами», он резко протестовал против попыток ассимиляции (хотя это не мешало ему дружить с абсолютно ассимилированными евреями); он даже осуждал браки с «гоями». Он сыграл некоторую роль в создании Государства Израиль, а потом, несмотря на свои миролюбивые устремления, участвовал в сборе денег для покупки оружия «Хагане». Поскольку ни в одной книге о нем, вышедшей на русском языке, «Эйнштейн-еврей» практически не освещается, необходимо заполнить эту лакуну. Так что в моей книге будет очень много «про евреев», и в самом начале я даже прошу — нет, умоляю — читателя попытаться представить себя евреем (и мне пришлось проделать над собой ту же работу), иначе многие поступки и мотивы Эйнштейна будет трудно понять — например, его отношение к СССР и Сталину. Я не скрываю некоторых исторических фактов, неприятных для евреев, и не исключаю того, что кому-нибудь моя книжка может показаться антисемитской, хотя самый умеренный антисемит (и, боюсь, «обычный средний человек» тоже), разумеется, сочтет ее «проеврейской».
Что касается подробностей личной жизни героев, их поступков, подчас неприглядных (и у Эйнштейна такие были), мое убеждение: надо писать правду. Все равно все эти подробности давно кочуют в ужасном виде по «желтой прессе», так лучше написать о них не абы как, а серьезно, анализируя, пытаясь понять причины. О том же Эйнштейне написана масса мерзких глупых гадостей, и если на 90% они вызваны антисемитизмом, то на остальные 10% — теми слащавыми «житиями святого», которых было много в советское время. (То были хорошие книги. Но — приглаженные.) Но бороться с этими мерзостями нужно не умолчанием, а внятными разъяснениями.
Надо ли писать о каком-то плохом поступке героя, если до сих пор никто о нем не знал, а автор случайно «откопал»? Думаю, все равно нужно: каждый поступок как деталь в пазле, деталь, из которых складывается характер. Получается противоречивый характер, такой, что не поймешь, «хороший» персонаж или «плохой»? Вот и прекрасно. У большинства «замечательных людей» были весьма противоречивые, «разноцветные» характеры. Даже у Чарлза Дарвина, совершеннейшего «душки», человека почти святого, были недостатки. А другой «душка», Марк Твен, при ближайшем рассмотрении оказался не таким уж безбрежно добрым. Хотя, знаете, биограф — не бесстрастная машина: бывает, одному герою почему-то «прощаешь» то, чего не можешь простить другому.
Политические взгляды героя (если он не политик)? Тут никаких сомнений: если таковые имелись (а они у всякого «замечательного человека» есть), обязательно писать, и как можно подробней и ясней, и ни в коем случае ничего не скрывать. (Вообще, я считаю, что скрывать нельзя ничего, — все равно рано или поздно правда выйдет наружу — так пусть выйдет в нормальной литературе, а не в «желтой».) В «Эйнштейне» политики будет довольно много — он ведь ею занимался, хотя и не совсем по собственной воле.
Что касается биографического жанра вообще: по-моему, он сейчас хорошо развивается и более-менее неплохо востребован. Биографии выходят очень разные по типу, и это хорошо: займут разные читательские ниши. Лично я, например, не выношу беллетризованных биографий («NN подошел к окну, прижавшись горячим лбом к холодному стеклу, потом отбросил недокуренную сигару и сказал: “Но послушайте, дорогая…”»), не люблю также биографий, превращающихся в субъективное авторское эссе, — но это мое личное мнение, а многим читателям такое нравится, и я не нахожу в этом ничего плохого. Не люблю, когда автор во всем оправдывает героя — но это тоже мое частное мнение. Мой идеал — биографии сухие, ясные и строгие, как, например, «Колчак» П. Н. Зырянова. Но мне так не написать — каждый автор пишет, как он умеет. «Георгий Иванов» Вадима Крейда мне нравится, но автор многое опустил, не желая «пачкать» героя, и от этого его характер не всегда понятен. Обратный пример — жэзээловский «Чайковский», где личная жизнь героя погребла под собой его творчество. (Нужно, на мой взгляд, соблюдать пропорции.) Быковских «Пастернака» и «Окуджаву» я считаю шедеврами, хотя по содержанию почти ни в чем с автором не соглашаюсь. В общем, биографический жанр живет. Только, к сожалению, живет он немножко на обочине. Серьезные литературные конкурсы, как правило, нас отвергают — для них мы «ни то ни се»; для конкурсов научной литературы — тоже. Попасть в шорт-листы биографическим работам удается лишь изредка — из почтения к знаменитому автору или по чьей-то уж очень доброй воле. На Западе авторы биографических книг с легкостью получают гранты на исследовательскую работу (потому что она необходима и объем ее огромен), у нас же автору, если он не является человеком обеспеченным, приходится всячески выкручиваться и изворачиваться. И тем не менее масса людей пишет и будет писать биографии, хорошие и разные, и это прекрасно.
[/part]
[phead]
Александр Ливергант
[/phead]
[part]
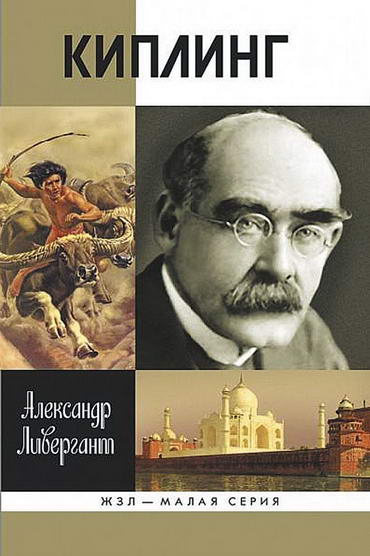 Обычно авторов биографий, литературных в том числе, интересуют пикантные или сенсационные — запоминающиеся — подробности их жизни, личной по большей части. Что до происхождения героя, то ему, бывает, уделяют много места, а бывает, не касаются этой темы вообще.
Обычно авторов биографий, литературных в том числе, интересуют пикантные или сенсационные — запоминающиеся — подробности их жизни, личной по большей части. Что до происхождения героя, то ему, бывает, уделяют много места, а бывает, не касаются этой темы вообще.
Я, к примеру, почти не касался политических взглядов моих героев; в случае с Киплингом, правда, надо было написать про его империализм гораздо подробнее. Что до Уайльда и Моэма, то к ним политика неприменима.
Конечно, в идеале следует стремиться к объемному, многоцветному портрету; портрет «черно-белый» — для газеты.
Биографий и в самом деле выходит сегодня очень много, многие не по первому разу, мой Уайльд, например, в серии «ЖЗЛ» — не первый. Прослеживается тенденция на «национальную» биографию в двух смыслах: во-первых, в том смысле, что иностранным авторам биографий издательство предпочитает теперь «своих», а во-вторых, больше стали писать про российских «замечательных людей», причем далеко не всех героев сегодняшних биографий можно назвать «замечательными людьми», круг героев серии расширяется. И еще одна чисто коммерческая тенденция: обычно теперь издательство интересуется громкими именами, известными и популярными людьми, хоть бы и со знаком минус.
[/part]
[phead]
Анна Сергеева-Клятис
[/phead]
[part]
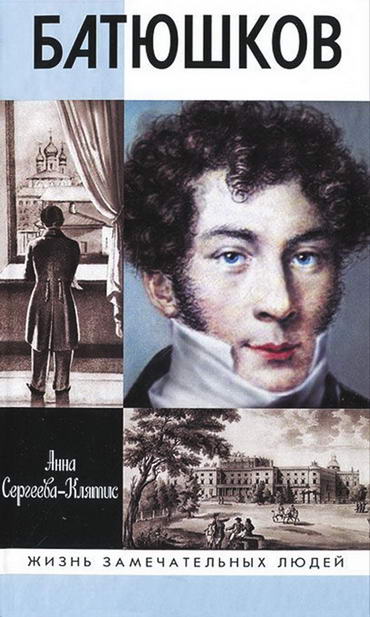 В 1922 году Осип Мандельштам, рассуждая о будущем биографического жанра, писал: «Дальнейшая судьба романа будет не чем иным, как историей распыления биографии как формы личного существования, даже больше чем распыления — катастрофической гибелью [footnote text=’Мандельштам О. Э. Конец романа // Мандельштам О. Э. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 203.’]биографии[/footnote]». Конечно, в нашем случае речь идет не о художественной биографии, не о романе в строгих жанровых рамках, а о научно выверенном жизнеописании человека известного, отмеченного печатью незаурядности, но, несомненно, не вымышленного, а реально существовавшего. Однако мандельштамовский пафос не стоит сбрасывать со счетов: в век распыления и гибели биографии трудно писать биографическую книгу. Простая хронологическая последовательность событий, предъявляющая читателю человеческую жизнь как карту с отмеченным маршрутом, совершенно потеряла свою значимость. Так писали биографии в XIX столетии, не захваченном тектоническими потрясениями, когда каменные глыбы истории только еще давали незаметные глазу трещины. Так была написана академиком Л. Н. Майковым знаменитая и едва ли не лучшая до сего дня биография К. Н. Батюшкова, так писал о Пушкине его первый биограф П. В. Анненков, так выстраивал свои исторические биографии Н. Г. Шильдер. Конечно, хронологический метод не отменял и тогда аналитического подхода к событиям, масштабных обобщений, разнообразных боковых ходов, однако все же это была биография в самом классическом понимании — жизнеописание. В этом же состояла ее сверхзадача.
В 1922 году Осип Мандельштам, рассуждая о будущем биографического жанра, писал: «Дальнейшая судьба романа будет не чем иным, как историей распыления биографии как формы личного существования, даже больше чем распыления — катастрофической гибелью [footnote text=’Мандельштам О. Э. Конец романа // Мандельштам О. Э. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 203.’]биографии[/footnote]». Конечно, в нашем случае речь идет не о художественной биографии, не о романе в строгих жанровых рамках, а о научно выверенном жизнеописании человека известного, отмеченного печатью незаурядности, но, несомненно, не вымышленного, а реально существовавшего. Однако мандельштамовский пафос не стоит сбрасывать со счетов: в век распыления и гибели биографии трудно писать биографическую книгу. Простая хронологическая последовательность событий, предъявляющая читателю человеческую жизнь как карту с отмеченным маршрутом, совершенно потеряла свою значимость. Так писали биографии в XIX столетии, не захваченном тектоническими потрясениями, когда каменные глыбы истории только еще давали незаметные глазу трещины. Так была написана академиком Л. Н. Майковым знаменитая и едва ли не лучшая до сего дня биография К. Н. Батюшкова, так писал о Пушкине его первый биограф П. В. Анненков, так выстраивал свои исторические биографии Н. Г. Шильдер. Конечно, хронологический метод не отменял и тогда аналитического подхода к событиям, масштабных обобщений, разнообразных боковых ходов, однако все же это была биография в самом классическом понимании — жизнеописание. В этом же состояла ее сверхзадача.
XX век сразу решил дело по-другому. В многослойных построениях В. В. Вересаева, в блистательном изложении В. Ф. Ходасевича, в художественно осмысленных историях Ю. Н. Тынянова, в строго научных и вместе с тем почти художественных биографиях от Ю. М. Лотмана до Н. Я. Эйдельмана есть то, что к сегодняшнему дню стало главной и сущностной чертой жанра, — концепция.
Современному читателю биография, не содержащая концепции, просто неинтересна. Плохо, если факты биографии подверстываются автором под уже готовую схему и, как в прокрустово ложе, втискиваются насильно в жесткую и не подходящую для материала форму. Хорошо, если концепция органично вытекает из событий биографии и жизненных предпочтений героя, давая осмысление каждому следующему эпизоду. Детальность изложения, сквозной принцип, который обязывает биографа отметить все известные ему события, не упустив ни одного, обстоятельность описаний быта и времени, новые — архивные или мемуарные — извлечения, проливающие свет на темные места, в конце концов, точность и непогрешимость против истины — все это оказывается необязательным. Или, во всяком случае, не всегда обязательным в современной биографии. Каждый из этих принципов применяется или, наоборот, отвергается автором в зависимости от заявленной концепции. Каков результат? Он может быть абсолютно разным и связан с двумя главными составляющими: добросовестностью и талантом биографа.
Может ли сложиться хорошая биография, если при удачной, убедительной концепции откинуты, не приняты в расчет многие ранее известные факты? Может. Как это получилось в одной из самых выразительных и психологически достоверных современных книг о Л. Н. Толстом. Речь идет о книге П. Басинского «Бегство из рая» (М.: АСТ, 2011). Зеркальный композиционный принцип позволил автору через один, правда едва ли не самый значимый, эпизод из жизни Л. Н. Толстого вытянуть всю его предысторию, не только фактическую, но и нравственно-психологическую, превратив рассказ о последних днях жизни писателя в цельное биографическое повествование. Имеет ли такое уж принципиальное значение то, что при этом выпали и были (очевидно, намеренно, а не по незнанию) выпущены те или иные события из огромной, длинной, сложной жизни Толстого? Нет, поскольку и задача ставилась другая — не составить подробную карту местности, а дать ответы на сущностные вопросы: в чем причина разлада семейных отношений Толстого, а также внутреннего разлада с самим собой, погнавшего его, глубокого старика, вон из дома, искать последнего пристанища на забытой Б-гом железнодорожной станции. И, как кажется, были даны ответы самой высокой степени убедительности.
Однако возможна и иная ситуация, в которой концепция настолько захватывает биографа, что от собственно объективной реальности не остается и следа — она перевоплощается в реальность вполне субъективного свойства. Так отчасти произошло в известной книге Дм. Быкова о Б. Пастернаке (М.: Молодая гвардия, 2005), кульминация которой — сравнение Пастернака с Маяковским и описание их взаимоотношений до 1930 года и после него. Увлекаясь собственными построениями, Быков смещает акценты, определенные фактическим материалом. В его концепции Пастернак оказывается в сомнительной роли поэта, отказавшегося от романтической биографии и выбравшего комфорт самоуглубления, позволяющий выжить и приспособиться, в сущности, к любой действительности, а Маяковский вырастает до трагической и титанической фигуры одинокого, вечно ищущего, никогда не обретающего, гонимого и обреченного на гибель романтика. Следуя этой логике, Пастернак постепенно отказывается не только от чуждой ему поэтики, но и от личности Маяковского, от дружбы с ним, порывает связывающие их человеческие отношения — стремясь сохранить собственное равновесие. На самом же деле факты заставляют смотреть на ситуацию принципиально иначе. Стоит внимательно прочитать прозу и письма Пастернака конца 1920-х годов (важнейший материал для биографа), и станет очевидным не только его переживание гибели Маяковского как собственной смерти, но и упорное стремление вытащить Маяковского из той паутины, в которой тот все больше и больше запутывался. Что дает биографу такая подтасовка? Несомненно, яркости его тексту она прибавит. А проблему ответственности перед прошлым и долга перед будущим каждому автору приходится решать самому.
И вот, решая ее, я добровольно возложила на себя несколько непременных ограничений: во-первых, концепция должна была органически вытекать из фактов биографии моих героев, поэтому заранее я не планировала, как будет написана книга. Само жизнеописание подсказывало ее идею, отчасти и композиционное решение, и структуру.
Во-вторых, я хотела ограничить повествование жесткими рамками, которые не позволяли включать в него расширяющий материал по истории культуры и эпохи, чтобы биография оставалась все же биографией и в центре ее стояла личность. К слову, совсем отрешиться от исторического и культурного контекста мне не удалось. В частности, в книге «Пастернак в жизни» большую роль играет политическая ситуация в СССР, постоянно менявшаяся и влиявшая не только на события биографии Пастернака, но и на его решения, и на творчество. В книге о Батюшкове переломным, важнейшим пунктом, во многом сломившим поэта и кардинально изменившим его взгляд на жизнь, стала Отечественная война 1812–1814 годов, о ней и о событиях, ее сопровождавших, тоже пришлось говорить достаточно подробно.
В-третьих, главным содержанием книги всякий раз становился фактический материал — прежде всего свидетельства самого героя, автобиографии, эпистолярные источники, зафиксированные высказывания о себе, затем — мемуарные свидетельства, воспоминания современников, отзывы литературных критиков, отражение событий биографии в журналистике. Таким образом, каждый эпизод биографии выстраивался по концентрическому принципу, если такая возможность предоставлялась фоном эпохи. Так, в книге о Батюшкове стержнем повествования стали письма поэта, которые иногда даже стилистически подсказывают следующий ход. А «Пастернак в жизни» вообще состоит только из голосов современников, которые изредка корректирует сам герой.
В-четвертых, я не стремилась обходить острые углы, которые имеются в каждой биографии, но также не хотела превращать их в краеугольные камни повествования. Так, в книге «Пастернак в жизни» подробно обсуждается вопрос о происхождении поэта, его еврейских корнях, его включенности в обиход бытового иудаизма начала XX века, однако не обходится и без истории о тайном крещении, которое оказалось важнейшей вехой на жизненном и творческом пути Пастернака. Также принимаются в расчет и поздние высказывания автора «Доктора Живаго» об отмене всяких национальных ограничений с приходом христианства, что позволило Бен-Гуриону несправедливо обвинить Пастернака в призыве к ассимиляции.
В-пятых, стремясь к достоверности изложения и возможному приближению к истине, я всегда сознательно выставляю препоны против восприятия собственных книг как художественных. В противовес такому подходу называю этот тип биографии «научным». На научность работают многочисленные ссылки на источники, которые добросовестные издатели скрепя сердце все же оставляют в книге, именной указатель, справочный аппарат.
Однако (и это ограничение можно считать шестым) стилистику книги я столь же сознательно старалась сделать приемлемой не только для своих коллег, специалистов по литературе, но и для возможно более широкого читателя, хотя это сочетание слов сегодня — уже оксюморон.
Ну а получилось ли то, что задумывалось, — судить широкому читателю.
[/part]
[phead]
Валерий Шубинский
[/phead]
[part]
 Девять правил биографа
Девять правил биографа
Я стараюсь писать книги, которые сам, как читатель, хотел бы прочесть. Мне кажется, это у всех так. Исходя из этого, я сформулировал для себя девять профессиональных принципов.
Например, мне неинтересно читать тысячестраничное эссе по поводу биографии писателя. Мне неинтересна прямая исповедь биографа. Я хочу слышать разные голоса: героя книги, его друзей и врагов. Мне интересен язык эпохи. Отсюда первое правило: биограф должен уметь скрываться за спиной героя. Для читателя 2010 года Елена Шварц была наверняка актуальнее, чем Габриэле д’Аннунцио, и думаю, для иных читателей 1930 года Ходасевич был актуальнее Державина. Но и в книге Шварц про д’Аннунцио, и в «Державине» Ходасевича автор прячется за нарративом. Его личность проявляется в подборе материала, в структуре изложения, а не в лирике и в риторике.
Во-вторых, мне неинтересны биографии апологетические. Биограф не должен всегда быть на стороне своего героя и стараться возвеличить его за счет современников. Смешно, когда в одной серии выходит одновременно биография Барклая-де-Толли, в которой принижается Кутузов, и биография Кутузова, в которой бросается тень на Барклая. Но нельзя писать и о тех, кого ты не в состоянии полюбить хотя бы как художественный объект. Если пишешь о злодее, не стоит его приукрашивать, но можно и должно возвести его в «перл творенья».
В-третьих, биография невозможна без контекста. Можно разворачивать правильное полотно эпохи, можно просто идти за ассоциациями. В моей первой книге я слишком этими ассоциациями увлекся, экскурсы «в сторону» несколько утяжелили текст. Но без них опять-таки неинтересно. Кроме самого героя, надо любить плоть окружающей его жизни. У каждой жизни есть шлейф окружающих ее знакомств и обстоятельств. Необыкновенно любопытно наблюдать, как пересекаются эти шлейфы. Например, отец Хармса оказывается знаком с Гапоном. Каждый пласт человеческой жизни и человеческой цивилизации, так или иначе, затрагивает любую отдельную человеческую судьбу. Если говорить, например, о еврействе и о героях моих книг, то понятно, как звучит эта тема в контексте биографии Ходасевича (внук Якова Брафмана, переводчик еврейской поэзии), или Гапона (спасенного, а затем убитого Пинхасом Рутенбергом), или Хармса (серьезно интересовавшегося еврейской мистикой). Но вот Гумилев, для которого эта тема, в общем, совсем нерелевантна, — оказывается, и он общался не только с ассимилированными «жидочками» вроде Мандельштама и Жирмунского или специфическими личностями вроде Блюмкина, но и с Софьей Дубновой-Эрлих, с Александрой Азарх-Грановской, с Ароном Штейнбергом. Все это не потому, что евреи такие замечательно вездесущие (хотя они, конечно, вездесущие), а просто по свойству реальности как таковой: все проникает во все.
В-четвертых, биограф не должен судить героя (или, наоборот, его врагов) по законам своего времени и своего круга. Для меня это было особенно очевидно при работе над биографией Ломоносова.
В-пятых, нельзя заниматься прямой самопроекцией. Невозможно механически перенести себя, каков ты есть в 2014 году, даже в обстоятельства года 1964-го. Механизмы самоотождествления, самозащиты, самопрезентации — совершенно иные. Тот, кто сказал, что «в России ничего не меняется», — невежественный лгун. Тот, кто сказал, что «люди всегда одинаковы», — лгун еще больший. Мы из того и бьемся, чтобы понять, чем люди другой эпохи отличались от нас.
В-шестых, важны все стороны жизни героя, а не только его профессиональная работа. Мне приходилось писать в основном о писателях. За биографию Георгия Гапона я взялся именно потому, что мне интересно было описать жизнь человека не пишущего, а действующего. Но надо отдавать себе отчет, что и писатели — существа из плоти и крови. Одновременно со мной над некоторыми из биографий работали специалисты-литературоведы, содержимое литературных архивов знавшие не в пример лучше меня. А вот сходить в архивы общегражданские и поискать там, скажем, школьные табели героя им в голову не приходило.
В-седьмых, завет историка чего бы то ни было: мы имеем дело не с фактом, а с документом. Утверждая что бы то ни было, стоит сослаться на источник. Свои предположения и реконструкции следует отделять от чужих свидетельств, о достоверности которых мы в каждом случае можем лишь гадать. Я для себя решил вопрос так: если мне захочется что-то реконструировать, я сделаю это в отдельной (беллетристической) книге. После биографии Ломоносова я написал книгу исторических рассказов «Ученые собратья». Сейчас я пишу книгу такого же жанра, главный герой которой — Гумилев.
Восьмое, и может быть, самое важное: в каждой биографии есть главный сквозной сюжет. Сюжет биографии Гумилева — гадкий утенок, который в каждом жизненном круге становится лебедем… а на следующем витке спирали снова превращается в гадкого утенка и должен все делать снова. Сюжет биографии Хармса — бесконечное ожидание чуда, происходящего уже за гранью жизни. Судьба Ходасевича — постоянная тяжба художника и человека, то демоническое презрение к «невинному и простому», то жалость, то зависть к нему, то тщетное желание стать таким же, как окружающие… Но этот сюжетный каркас не должен выпирать, не должен каждые пять страниц проговариваться. Внимательный читатель должен почувствовать его сам.
И последнее, девятое: когда выйдет очередная книга, ты, листая ее, обнаружишь там кучу ошибок и недосмотров, не говоря уж о стилистических недостатках. Еще сколько-то найдут рецензенты. Не кидайся в пролет, не пей яду. Не в первый раз, не в последний. Со следующей книгой все будет точно так же. Поэтому пиши такие книги, чтобы их переиздавали. Тогда от переиздания к переизданию можно исправлять недостатки, постепенно приближаясь к совершенству.
[/part]
[phead]
Ирина Лукьянова
[/phead]
[part]
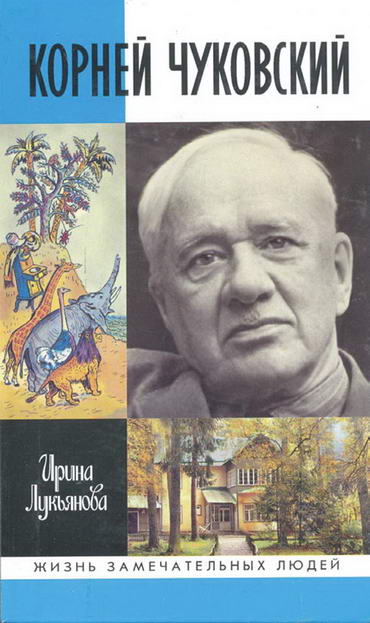 Если допустить, что безупречные люди бывают, — то и тогда, наверное, было бы трудно написать биографию идеального человека. Но обычно биограф имеет дело с живым героем, который поступает то глупо, то легкомысленно, то жестоко, то подло. То, наоборот, героически и возвышенно. А еще биограф имеет дело с самыми разными читателями — в том числе такими, которые требуют однозначных моральных оценок — или выносят их сами.
Если допустить, что безупречные люди бывают, — то и тогда, наверное, было бы трудно написать биографию идеального человека. Но обычно биограф имеет дело с живым героем, который поступает то глупо, то легкомысленно, то жестоко, то подло. То, наоборот, героически и возвышенно. А еще биограф имеет дело с самыми разными читателями — в том числе такими, которые требуют однозначных моральных оценок — или выносят их сами.
Пушкин был бабник, Лермонтов манипулятор. Блок был отвратительный муж, Толстой мучил жену, Цветаева замучила дочь, Пастернак запутался в женщинах, Ахматова — в мужчинах, — и эти люди делали великую русскую литературу? И эти люди запрещают нам ковырять в носу? — негодует читатель. «Не буду читать эти ваши биографии, не хочу разочаровываться, — сказала одна читательница. — Когда посмотришь на этих великих людей поближе, хочется брезгливо захлопнуть книгу и ничего этого не знать».
Что биографу делать со всем этим — с дурным характером, запутанными семейными отношениями, интимными подробностями? Когда я писала про Чуковского, дорогу показывал сам Чуковский. Рассказывая о литераторах прошлого — Некрасове, Шевченко, Николае Успенском, он интуитивно нащупал верный тон: каждый его герой по-человечески сложен, и сложно авторское отношение к герою. Любовь сквозь сожаление, сострадание, негодование; любовь сквозь иронию — все это бесконечно далеко от апологии или осуждения, от раздачи моральных или политических оценок. Есть случаи — как, например, с Дружининым, — где явно заметно неприязненное отношение автора к герою, но и здесь оно обусловлено не частной жизнью героя, а тем, как он распорядился своим талантом, какое место в литературе для себя избрал.
И подход Чуковского здесь принципиально противоположен подходу брезгливой читательницы, не желающей знать подробностей: не бытовые подробности компрометируют великого писателя и принижают значение его творчества, — а, наоборот, великий писатель вырастает из маленького частного человека, он вырастает и выпрямляется, если прислушивается к своему дару, и из сора вырастают бессмертные стихи.
Способность смотреть на частного человека сквозь призму его таланта особенно заметна при сравнении дневниковых записей Чуковского о писателях, с которыми он был лично знаком, и его воспоминаний и литературоведческих статей о них (правда, тут стоит сделать оговорку о Маяковском: все, что написано после «Ахматовой и Маяковского», носит следы вымученной подневольности). Если в дневниках — непосредственные впечатления, сиюминутная фиксация настроения, случайные заметки, часто говорящие о том, как смешон, жалок, неприятен, слаб, беспомощен персонаж, то в текстах, предназначенных для печати, случайное отсекается, а выделяется главное. И в слабом, несовершенном человеке становится яснее различим огонь, мерцающий в сосуде, — тот, ради которого и которым живет литература. Разумеется, есть умолчания по причинам внелитературным — одним, если речь о Горьком, другим, если об Ахматовой. Но всегда заметно последовательное стремление разглядеть в несовершенном человеке великого писателя, а не наоборот; замечать в нем то, чем он прекрасен и ценен, а не подлавливать, когда он мал, как мы, он мерзок, как мы.
Отношение Чуковского к его героям можно, наверное, назвать презумпцией человечности: они для него ценны, интересны, он сочувствует им и сострадает, но не обеляет их безудержно — а внимательно исследует их непростые судьбы. Мандельштам сказал ему однажды, в советское время уже, что во времена, когда во всех романах кризис героя, этот герой, страдающий и любимый, переплеснулся в книгу Чуковского, который не судит его «тем губсудом, которым судят героев романисты нашей эпохи».
В общем, все это дает очень внятную систему координат, в которых вполне возможно удержаться, — и в которой я пыталась удерживаться и тогда, когда писала о Чуковском, и в своей мелкой повседневной работе: журнальные писательские биографии, школьные уроки литературы…
Человек разноцветнее черно-белого портрета в учебнике, сложнее журнальной статьи и больше монографии.
Самое главное в работе над биографией, мне кажется, — понять и объяснить читателю внутреннюю логику поступков героя, даже если эта логика не близка автору; научиться смотреть изнутри своего героя — и уравновесить этот взгляд изнутри, через письма, дневники, стихи, прозу — попыткой объективного взгляда извне. Это не всегда удается: куда легче солидаризироваться с персонажем или однозначно дистанцироваться от него; существовать одновременно в двух реальностях своего персонажа — внешней и внутренней — очень сложно, и я совершенно не уверена, что баланс, который мне казался оптимальным на момент создания книги о Чуковском, в самом деле оптимален. Наверное, сейчас я бы все переделала.
Очень важно научиться слушать своего героя. Разглядеть, какие вопросы для него самые важные во время становления его личности. Очень часто эти вопросы оказываются связаны с травматическим опытом детства и юности и его преодолением. Травматический опыт может быть каким угодно — опытом незаконнорожденности и трудной самоидентификации, как у Чуковского, многолетнего физического насилия, как у Сологуба, травмированного чувства собственного достоинства, как у Чехова… пережитой вины и социального изгойства, как у Боратынского… опыта сиротства — поди сосчитай их, русских писателей, схоронивших своих маменек или папенек — и всю жизнь ощущавших свое сиротство. Семейных драм и тяжелых сцен между родителями. Опыта национального самоопределения. Понимания своей сексуальности. Первой любви. Бессмыслицы. Войны. Затяжной депрессии.
Здесь надо внимательно читать, прислушиваясь, как доктор: где больно? Что больно? Почему больно? Почему именно здесь? Как это влияет на всю последующую жизнь героя? Чуковский, незаконнорожденный сын полтавской крестьянки и студента из состоятельной еврейской семьи, мучительно пытался искать ответы на самые простые вопросы, из паспортных граф: национальность — русский по культуре и языку? украинец по матери? еврей по отцу, по принадлежности к одесской интеллигентской субкультуре? Как вас называть по отчеству? Сестра Мануиловна, по отцу; словари по сей день утверждают: настоящее имя — Николай Васильевич Корнейчуков, «Васильевич» — по батюшке, который его крестил, — как здесь разобраться?
Не подсовывать герою свои смыслы — очень важно. Важно следить, как он сам ищет ответы на эти вопросы. Если пишешь про Чуковского — увидеть, как он сам себя сделал, — деревянный человек, выстругал сам себя на верстаке, сказал Розанов; сам себе дал новое имя, новое отчество, новую фамилию. Сам — ищет, экспериментирует, увлекается еврейским вопросом — отчасти под влиянием Жаботинского, с которым был дружен, отчасти из искреннего интереса — и в конце концов определяется — и со своей принадлежностью к русской культуре, и со своей всемирной отзывчивостью, открытостью к другим культурам и другим языкам. Если пишешь про Катаева (сейчас пишу про Катаева) — увидеть, как юношу, почти мальчика, формирует война, привычка выживать любой ценой, как главной ценностью оказывается жизнь как таковая, просто жизнь — совершенно по Некрасову:
«Ну, открывай, старинушка,
В чем счастие солдатское?
Да не таись, смотри!»
— А в том, во-первых, счастие,
Что в двадцати сражениях
Я был, а не убит!
А во-вторых, важней того,
Я и во время мирное
Ходил ни сыт ни голоден.
А смерти не дался!
А в-третьих — за провинности,
Великие и малые,
Нещадно бит я палками,
А хоть пощупай — жив!
Счастливцев среди русских писателей немного: поэтому так важно увидеть, как они выживают в тяжелые времена, за счет чего держатся, что считают для себя главным, какую стратегию выживания выбирают — или, наоборот, отказываются от выживания; тогда почему?
Разглядеть — что они любят, чем дорожат, что ценят, ради чего живут — об этом и рассказать читателю. Вроде бы все просто на первый взгляд.
[/part][/parts]

Голос в тишине. Где кроется избыток

«Хумаш Коль Менахем»: Что ответил Моше