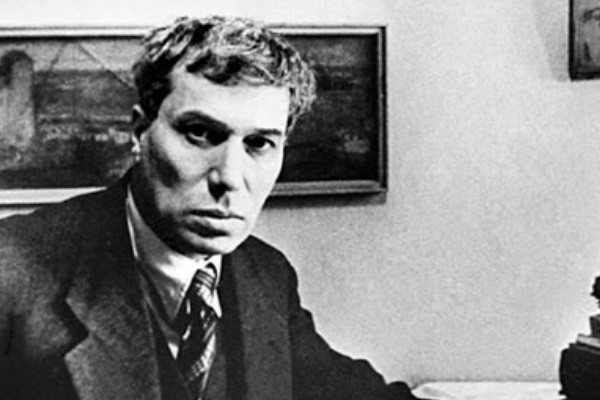
«“Я свожу в нем счеты с еврейством”, – предупредил Борис Леонидович, сообщая о начале работы над романом. Роман тогда назывался “Мальчики и девочки”, потом стал известен как “Доктор Живаго”. Автор, надо полагать, намеревался свести счеты и с еврейскими мальчиками, и с девочками». Это выдержка из письма О. М. Фрейденберг, многолетней его корреспондентки. Но в данном случае важен не адресат, а дата: 13 октября 1946 года.
Далось ему это еврейство! Сам-то был рожден евреем, родители хранили верность еврейству, а отец так однажды поступил весьма смело, защищая свое происхождение. Он отказался изменить иудаизму даже рискуя не получить профессорского звания, которое в те времена, кроме почета, сулило и немалые практические преимущества. Однако князь Львов, от которого это зависело, милостиво разрешил ученому совету Училища живописи, ваяния и зодчества удостоить Исаака Иосифовича (он же Леонид Осипович) звания профессора. Любопытно, можно ли было стать великим русским поэтом, имея отчество – Исаакович? Загадка.
Обряд «брит мила» был совершен над младенцем пятого адара (в марте), несколько позже, чем на восьмой день, как положено («по слабости» – отмечено в документе). Это допускается. Матушка Райца, она же Роза, к тому времени уже имевшая звание профессора Одесской консерватории, и папа Исаак на дрожках привезли Бореньку к синагоге – я полагаю, в Спасоглинищевском переулке (забавы ради повесить бы на ней мемориальную доску!) – и там, в присутствии раввина и миньяна моэль произвел с молитвою необходимые манипуляции, и мальчик стал иудеем. Родители были счастливы.
Кстати, и в аттестате об окончании гимназии указано Борино «иудейское вероисповедание» (сплошные пятерки, но в графе «Закон Божий» – прочерк, поскольку от уроков православия был освобожден). Какого-либо неудовольствия, тем более протеста, учащийся не выказывал.
Но вот минуло восемнадцать лет, революция уравняла евреев в правах с другими народами России, а открыто враждебное к ним отношение даже преследовалось по закону. И что же мы слышим от свободного гражданина свободной страны СССР? Прямо-таки стенания какие-то. «Крайним несчастьем было родиться… Очень серьезным неудобством было явиться евреем – прескверная по своему тупоумию выдумка. Уж если на то пошло, то следовало в таком случае родиться при Маккавеях… Разлетаться же в самое сердце русского березняка с такой отметиной… – было шагом необдуманным» (из письма Ф. Пастернаку, август 1926 года). Борис Леонидович Пастернак, при обилии достоинств чувством юмора не обладал и не стремился его демонстрировать, но здесь он пытается острить.
И невдомек ему, что, родись он с другой отметиной, иной душевной организацией и наследственностыю, он скорее всего и не разлетался бы в сердце березняка, и не углядел бы крутящегося снежного неба, и не уловил бы парения прозрачной стрекозы. И никогда бы нам не прочитать сотен, а, может, и тысяч схваченных гениальной кистью картин русской природы.
Тут еврейская меланхолия наложилась на русскую ширь – пример Левитана тому подтверждение.
Да, но как же собирается он сводить счеты с мальчиками и девочками иудейского вероисповедания? Очень оригинально, как и все у него. Вот два эпизода из «Доктора Живаго».
Живаго с Гордоном, своим приятелем, – в прифронтовой полосе. Первая мировая. «В одной из деревень, мимо которой они проезжали, молодой казак при дружном хохоте окружающих подбрасывал кверху медный пятак, заставляя старого седобородого еврея в длинном сюртуке ловить его. Старик неизменно упускал монету. Казак шлепал его при этом по заду, стоявшие кругом держались за бока и стонали от хохота. Пока что оно было безобидно, но никто не мог поручиться, что оно не примет более серьезного оборота». Как бы и не пристрелил, если кривляния старика перестанут его забавлять. «Из-за противоположной избы выбегала на дорогу, с криками протягивала руки к старику и каждый раз вновь боязливо скрывалась его старуха. В окно избы смотрели на дедушку и плакали две девочки».
Живаго одернул казака и заставил прекратить издевательство. Тот искренно удивился: «Мы ведь не знамши, только так, для смеха». Отчего, право, и не потешить себя с этой обезьяной!
«Всю остальную дорогу Гордон и Живаго молчали.
– Это ужасно, – начал… Юрий Андреевич. – Ты едва ли представляешь себе, какую чашу страданий испило в эту войну несчастное еврейское население. Ее ведут как раз в черте его вынужденной оседлости. И за изведанное, за перенесенные страдания, поборы и разорение ему еще вдобавок платят погромами, издевательствами и обвинением в том, что у этих людей недостаточно патриотизма! А откуда быть ему, когда у врага они пользуются всеми правами, а у нас подвергаются одним гонениям». Во время второй мировой в непатриотизме обвиняли немцев Поволжья, чеченцев, крымских татар и другие народы. Так уж повелось. Но сказано верно.
«Противоречива, – продолжает Живаго, – сама ненависть к ним, ее основа. Раздражает как раз то, что должно было бы трогать и располагать. Их бедность и скученность, их слабость и неспособность отражать удары. Непонятно. Тут что-то роковое».
«Гордон ничего не отвечал ему», – многозначительно замечает романист.
Гордон и выбран автором, то есть предназначен им для того, чтобы высказаться до конца на щекотливую тему. Было бы неэтично, скажем, если бы сводил с еврейством счеты человек по фамилии Живаго. Вечером, когда они прибыли на постой, Гордон взял слово.
«Этот казак, – приступает он, – глумившийся над бедным патриархом, равно как и тысячи таких же случаев, это, конечно, примеры простейшей низости, по поводу которой не философствуют, а бьют по морде, дело ясно». Хотелось бы посмотреть, как Гордон набьет морду казаку! Однако набитая морда и даже тысяча набитых морд не решают вопроса, так сказать, философски. А у Гордона приготовлена целая философия. Она касается всего народа. Или народов. «О каких народах может быть речь в христианское время? Ведь это не просто народы, а обращенные, претворенные народы, и все дело именно в превращении, а не в верности старым основаниям. Вспомним Евангелие. Что оно говорило на эту тему? Во-первых, оно не было утверждением: так-то, мол, и так-то. Оно было предложением, наивным и несмелым. Оно предлагало: хотите существовать по-новому, как не бывало, хотите блаженства духа? И все приняли предложение, захваченные на тысячелетия». Отныне, уверен оратор, «нет народов, есть личности».
Вообще-то идея нивелировки народов более близка практике ислама; не чужда ей и коммунистическая доктрина. Поведенческая модель араба мало отличается от таковой – узбека. Мусульманство сглаживает национальные сучки и задорины. А что же еврейство? «Национальной мыслью возложена на него мертвящая необходимость быть и оставаться народом, и только народом, в течение веков, в которые силою, вышедшей некогда из его рядов, весь мир избавлен от этой принижающей задачи». «Принижающая задача» оставаться народом возложена на евреев Б-гом: «Я избрал вас среди других народов». Христианство не отменяет бытия народов. Гордон неправ. История человечества не превратилась в историю личностей. «Весь мир!» Эк, хватил. Увлекся Гордон. Француз не страдает от принижающей задачи оставаться французом.
«Этот праздник, это избавление от чертовщины посредственности, этот взлет над скудоумием будней, все это родилось на их земле, говорило на их языке (их! – не его, не Гордона – Пастернака) и принадлежало их племени. И они видели и слышали это и это упустили?» Опять они виноваты. «Отчего властители дум этого народа не пошли дальше слишком легко дающихся форм мировой скорби и иронизирующей мудрости? Отчего, рискуя разорваться от неотменимости своего долга, как рвутся от давления паровые котлы, не распустили они этого, неизвестно за что борющегося и за что избиваемого отряда? Отчего не сказали: “Опомнитесь! Довольно. Больше не надо. Не называйтесь, как раньше. Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь. Будьте со всеми. Вы первые и лучшие христиане мира. Вы именно то, чему вас противопоставляли самые худшие и слабые из вас”».
Гордон упивается красноречием и несет ахинею: «Чертовщина посредственности и скудоумие будней царили на “их земле”». О какой земле он говорит? Той, по которой ходили пророки и где родилась Книга Книг? О каких властителях дум «этого народа» он вещает? Две тысячи лет это племя было рассеяно между народами. У него были писатели, музыканты, комментаторы Библии – но властители дум? Кого он имеет в виду? И эти мифические властители не пошли дальше мировой скорби и иронизирующей мудрости… Чушь! Им что, надо было командовать народом, как старшины новобранцами: «Не сбивайтесь в кучу! Разойдитесь! Ать-два!»
Солидная часть этого рассеянного народа проживала и проживает и сейчас среди мусульман, и я не уверен, что ее участь была бы облегчена, если бы они дружно возопили. «Мы лучшие христиане мира!» Ну, разве что сознание того, что – обратились. Претворились. И страдают не просто как евреи, а как евреи-христиане, живущие среди мусульман.
Перелистаем страниц двести романа, перенесемся на десять тысяч километров на восток и найдем сцену еврейского погрома в городе Юрятине. Лара, возлюбленная доктора Живаго и одна из главных героинь романа, пытается разобраться в себе. Это, пожалуй, самая длинная тирада, которую автор вложил в ее устa, придавая ей особое значение, и потому приведем ее полностью.
«Если мы городские жители и люди умственного труда, половина наших знакомых из их числа. (А Гордон призывал их стать как все! А они уж вон – как все! – усердно трудятся в сфере умственного труда. – Я. К.)
И в такие погромные полосы, когда начинаются эти ужасы и мерзости, помимо возмущения, стыда и жалости, вас преследует ощущение тягостной двойственности, что наше сочувствие наполовину головное, с неискренним неприятным осадком.
Люди, когда-то освободившие человечество от ига идолопоклонства и теперь в таком множестве посвятившие себя освобождению его от социального зла (вишь, оправдывает социальную активность евреев – Я. К.), бессильны освободиться от самих себя, от верности отжившему допотопному наименованию, потерявшему значение, не могут подняться над собою и бесследно раствориться среди остальных, религиозные основы которых они сами заложили и которые были бы им так близки, если бы они их лучше знали.
Наверное, гонения и преследования обязывают к этой бесполезной и гибельной позе, к этой стыдливой, приносящей одни бедствия, самоотверженной обособленности, но есть в этом и внутреннее одряхление, историческая многовековая усталость. Я не люблю их иронического самоподбадривания, будничной бедности понятий, несмелого воображения. Это раздражает, как разговоры стариков о старости и больных о болезни. Вы согласны?
– Я об этом не думал. У меня есть товарищ, некий Гордон, он тех же взглядов».
Еще бы! Других мыслей у автора и нет. Высказывает их Гордон, высказывает Лара. Они об одном: освободитесь от самих себя! «А как мне быть с моей грудною клеткой?» – воскликнул однажды сам Пастернак, отвечая призывам тех, кто требовал от него перековки. В самом деле. «Бесследно раствориться среди остальных»… Среди кого, позволительно спросить? Ежели ты бухарский еврей – стань узбеком и прими мусульманство. Основы этой религии евреи тоже «сами заложили». А ежели занесло тебя в Германию… Но тут особый разговор. Евреи Германии объявили себя немцами, было дело. Что из этого вышло, всем известно. Некое несоответствие с тезисом Гордона тут проявляется, и закрадывается подозрение, что автор просто не знает, что есть бухарские, горские, эфиопские, евреи, которые проживают среди арабов и обликом стали на них похожи…
Но ведь мы тайную мысль Лары понимаем, чего лукавить. Креститесь, братцы. И сами избавитесь от себя (наконец!) и нас избавите от двойственности сочувствия к вам «с неискренним неприятным осадком». Ничего с собой поделать, дескать, не можем, но такие мысли посещают наши головы: вы сами виноваты, что вас громят. Вспомним, Гордон ведь, по сути, то же самое провозглашал.
Это так наивно (не называть же это низостью), что простительно только очаровательной Ларе. И не стоило бы отвечать, но – необходимо. Однако чуть позже.
В жизни Пастернака случился эпизод слишком заметный, чтобы быть обойденным биографами, но недостаточно разобранный ими. В особенности с нравственной и религиозной стороны, а ведь он именно с этой стороны судит в романе – и не только людей, но и народы. В 1926 году (письмо к Ф. Пастернаку – двоюродному брату) он, сетуя на свое еврейское происхождение, христианских чувств в себе никак не открывал и, по-видимому, и не испытывал. Я думаю, что и через пять, и через десять лет было бы то же самое. Некоторые читатели, поди, догадались, что я исподволь подбираюсь к заповедям, провозглашенным с горы Синай и через две или три тысячи лет повторенных Христом. В особенности к одной из них: «Не пожелай ближнего своего».
Речь идет об известной истории с тремя действующими лицами – Пастернаком, Генрихом Нейгаузом и его женой, Зинаидой Николаевной, – истории, которая стала кошмаром для всех троих.
Когда недавно я перечитывал роман, то поразился тому, какой же доктор – типичный еврейский муж! Бесконечно преданный семье. И типичный еврейский любовник. Он мог бы поменяться фамилиями с Гордоном.
Испытав страдания, которые были связаны – и он не мог этого не понимать – с его сверхчувствительной натурой, его генами, его впечатлительностью и воображением, Пастернак еще сильнее потянулся к тому, что считал здоровым народным началом. Это был первый шаг к православию. Он шел к православию – через народ. Естественно, русский. В 1940 году было опубликовано его стихотворение «На ранних поездах», которое я всегда вспоминаю, когда доводится в сумерках идти к платформе Переделкино, чтобы ехать в Москву.
Вдруг света хитрые морщины
Сбирались щупальцами в круг,
Прожектор несся всей махиной
На оглушенный виадук.
В богатой русской поэзии такие строфы наперечет. Грубая вещественность движения сочетается в ней с певучестью, которую хочется назвать первобытной.
«Я молча узнавал России / Неповторимые черты». А? Здорово. Лирический герой располагается «в горячей духоте вагона» (надышали, небось, когда это в пригородных поездах топили?) и, «превозмогая обожанье», наблюдает. «Здесь были бабы, слобожане, / Учащиеся, слесаря». «В них не было следов холопства, / Которые кладет нужда» – привыкли. Нужда всегда была и есть. А холопству откуда бы и взяться, спрашивается? После 37-го года? Коллективизации? Раскулачивания? Строительства канала Москва – Волга? Выдавили по капле. Взгляд, который застит слеза умиления, видит то, что потребно душе.
Первые признаки религиозности проявляются у Пастернака в поэзии военного времени. Сталин тогда сделал послабление церкви, поняв ее значение для поддержания мужества и твердости духа народного. Поэтам разрешили использовать в стихах религиозные понятия.
Жить и сгорать у всех в обычае,
Но жизнь тогда лишь обессмертишь,
Когда ей к свету и величию
Своею жертвой путь прочертишь.
«Смерть сапера»
Здесь ключевое слово – «жертва».
Пастернака более всего привлекала одна сторона в христианском учении: жертвенность. Живаго всегда – жертва. Если он и проявляет активность, то это всегда активность выживания. Анна Андреевна Ахматова не приняла Живаго, найдя в нем сходство с «маленькими человеками» Чехова. А Чехова она не любила. Да, маленький человек. Но и не совсем так. Сложнее. Жертва. Если Живаго alter ego автора (как уверяют критики), то понятно внутреннее самоощущение Пастернака, осознание себя жертвой (вероятно, даже в матримониальных обстоятельствах). Жажда жертвенного подвига овладевала им все более.
Советская власть поспешила прийти на помощь трудящемуся писателю. Она помогла ему совершить жертвенный подвиг. И сняла тяжелый груз с его души. (Советская власть вообще была фантастически умелым рекламистом и «пиарщиком» отдельных талантливых литераторов.)
Но вернемся ко времени написания письма Пастернака О. Фрейденберг, о котором говорилось в самом начале.
Сорок шестой год.
Обескровленное, обезумевшее от ужаса европейское еврейство едва-едва начало приходить в себя после повального смертоубийства, которому подверглось в последние четыре года и которому несколько десятилетий потом не могли подобрать названия. Наконец, обратившись к Библии, нашли понятие о Всесожжении – Шоа, Холокост.
Постепенно всплывали факты о размахе и обдуманности хода уничтожения. Евреи сгорали заживо в синагогах, их расстреливали в оврагах, травили в газовых камерах. День и ночь эшелоны подвозили к печам вагоны. В этих вагонах тряслись и обмирали от предсмертного томления коммунисты, раввины, ассимилянты, антисемиты… Кто-то сказал, что в дыму труб Освенцима свилось единство еврейского народа.
Илья Эренбург и Василий Гроссман, будучи военными корреспондентами, собирали материал о зверствах фашистов на оккупированных территориях. Это стало «Черной книгой». В ее составлении принимал участие Андрей Платонов, за что ему вечная благодарность от евреев.
Книга была запрещена (в России она увидела свет сорок лет спустя). Был рассыпан набор книги о еврейских партизанских отрядах в Белоруссии. Запретили упоминание в печати о жертвах и о еврейском сопротивлении.
Над уцелевшими советскими евреями нависла новая угроза. В сорок восьмом году был убит Михоэлс и разогнан его замечательный театр. Был арестован цвет творческой интеллигенции – поэты, журналисты, писатели, артисты. 12 августа 1952 года их расстреляли в застенках Лубянки. Это дата гибели культуры на идише, которая уже не смогла возродиться. Было затеяно пресловутое и постыдное «дело врачей». Есть достоверные свидетельства о том, что готовилась депортация еврейского населения в Сибирь.
Все эти годы Борис Леонидович увлеченно работал над романом «Доктор Живаго». Законченные главы читал друзьям – на даче, дома, в гостях. (Разумеется, это сопровождалось угощением.) Пастернак писал в письмах, что испытывал счастье, читая друзьям законченные главы.
Пастернак не заметил Холокоста!
Разглагольствования его героев относительно еврейства относятся к 10–20-м годам, но сочинял-то он в 50х!
И сочинял как раз в те дни и ночи, когда на допросах в камерах Лубянки изводили поэта Маркиша и романиста Бергельсона и морили без сна академика биологии Лилю Штерн.
Пастернак не услышал их стонов.
О каких претворенных, преображенных народах толкует Гордон? Смертоубийство и расправа учинились в самых недрах претворенных народов, и понадобилось немало лет, чтобы католическая церковь признала свою вину за Холокост. Я не знаю, каково нынче отношение к нему со стороны других христианских конфессий, но известно, что в сентябре 1941 года лидеры протестантов Германии издали декларацию, объявлявшую – как бы прямо в ответ Гордону – «невозможность спасения евреев путем их крещения из-за особой расовой конституции».
«И все (народы – Я. К.) приняли предложение (претвориться – Я. К.), захваченные на тысячелетия…» Да, видно, тысячелетий-то не хватило, чтобы претвориться. Недопретворились. А евреи с их «мертвящей необходимостью быть и оставаться народом…» – что с них возьмешь? – задержались на историческим пути. Сами виноваты – «упустили».
Гордону вторит Лара. Бедняжка, она не в состоянии сочувствовать жертвам погромов всей душой (разве что наполовину), и сочувствует «головно». Она признает, что евреи делят умственный труд страны и помогают «в таком множестве» освобождению от социального зла. Но они «не могут подняться над собою и бесследно раствориться среди остальных».
«Милая Лара!» – обратились бы к ней евреи, если бы автор дал им место на страницах романа… (Гордон не в счет, какой он еврей? Хотя в газовую камеру его бы загнали без колебаний, окажись он в зоне фашистской оккупации.)
«Милая, очаровательная Лариса Федоровна! – обратились бы к ней евреи. – Вам, вероятно, открыты пути Провидения, и концы и начала мироздания. Почему-то ведь Г-сподь сохранил и хранит этот древний народ? А если бы народ этот “бесследно растворился” в человеческой икре, как вы ему навязываете, человечество – что, обогатилось бы красками, разумом и благородными характерами? Лариса Федоровна! Мир обеднел бы, как беднеет он всякий раз, когда исчезает какое-нибудь малозаметное животное или растение. Какой-нибудь ландыш, вид оленей или сусликов. Мы не нуждаемся в вашем сочувствии. Извините. Тем более, что и сочувствие-то ваше головное и половинчатое. Приберегите его для кого-нибудь другого. Что же касается совета немедленно исчезнуть и бесследно раствориться, то таких советов мы наслушались на протяжении нашей долгой истории ой-ой-ой сколько. И ничего. Живы покамест. Простите».
Но Пастернак не дал евреям высказаться на страницах своего романа. В замечательной книге Натальи Ивановой «Пастернак и другие» убедительно показано, как болезненно переживал он – а ведь надо бы этому радоваться! – что его оставило в покое чудовище, которое поглотило его друзей – Марину Цветаеву, Мандельштама, Пильняка, Табидзе и скольких еще других! Он боялся, что его подозревают в связях с «ними». Об этом свидетельствует Исайя Берлин, английский литературовед и дипломат. Никто, конечно, его не подозревал. «Доктор Живаго» должен был стать искуплением вины перед казненными друзьями. Покаянием за грех благополучной жизни.
Пастернак хотел страдания, хотел быть распятым на кресте литературы. Собратья по перу поспешили сколотить крест и повели его на Голгофу. Власти, глумясь, разрешили уехать за границу. Он мог бы там продлить себе жизнь. Но литературная судьба его была исполнена. Продлевать биологическое существование было бы недостойно гения.
Есть какая-то завершенность в оборванных судьбах великих поэтов России: Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Есенина. Он сравнялся с ними и в этом.
(Опубликовано в газете «Еврейское слово», №178)

Две встречи «Живаго» с евреями

Случай Мандельштама

