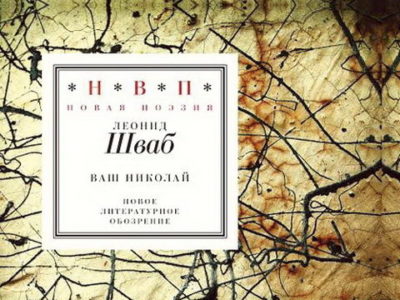Илья Риссенберг: «Сборник “ИноМир. Растяжка” — о 2013–2015 годах на Украине: революция, война»
После того как в 2012 году Илья Исаакович Риссенберг стал лауреатом «Русской премии» в поэтической номинации, читатели разделились как минимум на две группы: первые привычно спрашивали, кто этот поэт, а вторые — почему они не прочитали его раньше. Не знаю, какая из этих групп была более многочисленной, но себя я отношу ко второй, ведь Риссенберг давно публикуется в ведущих украинских и российских литературных изданиях, а «Русская премия» открыла этого потрясающего автора для более широкой читательской аудитории. Таким образом, значение живущего в Харькове поэта стало очевидно для всех читающих, говорящих и пишущих на русском языке. Впрочем, в лингвистическом смысле эти тексты представляют собой своеобразное поле битвы между различными языками, но сегодня очевиднее, что распря происходит между русским и украинским.
Поэтическая работа Риссенберга показывает, как можно мыслить и писать в отдалении от разного рода нормативных языков, не теряя связь с универсализмом. Поэтическая речь, которой становится тесно в рамках отдельно взятого стихотворного текста, оказывается способна включить в себя чуть ли не все знание человечества.
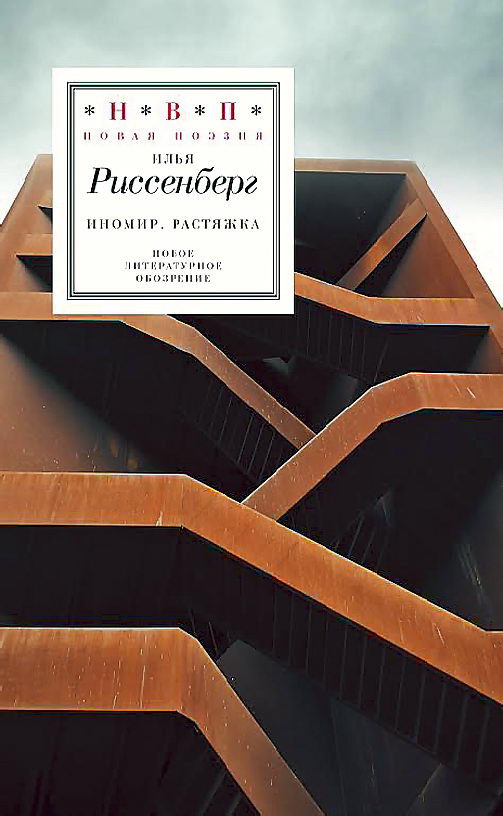
В начале света, вечном и понятном,
Ночь‑небоноша тужит этажи;
В Б‑жественном ничтожестве пенатам
Подробность: просто — Слушай! — так дождит.
Чуть тише — просторечье, праисточье,
Чирикающих прорезей вездечь;
Еще чуть ниже — нещечко пророчье
Ячает яко вещь: Учеловечь!
Скажи лишь мне, двусветьям двупалатных
Вездечьих взлобий воздаяли швы;
Втемне прозрачна, хижина попятных
Холодных душ онёрами любви
Речений ониричных небоятных
Земному камню кажется: Живи!
ДЛ → Ваша новая книга «Иномир. Растяжка» составлена по принципу избранного? Или в нее вошли только новые стихи — стихи последнего времени? Что для вас книга стихотворений вообще, так как, на мой взгляд, вы поэт, работающий отдельными текстами.
ИР ← Это не такой уж редкий для моих стихов случай непосредственного событийного высказывания. Здесь, в книге «ИноМир. Растяжка», они о 2013–2015 годах на Украине: революция, война. Эта поэтизация и есть новое в себе и для себя; надеюсь, и для читателя и текста как такового — вся триада. Вторая часть вашего вопроса в точку! Хотя бы потому, что рассуждение об этом вошло в статью «Вступление» (книжка «Третий из двух»). Тут вот что думается. Ведь новизна, первозданность, самообновление — и преодоление — категорически вступают в действительность каждого стихотворения, именно нового! Без нового слова и смысл, и музыка (как функции‑категории) недостаточно субстанциальны. Значит, каждое стихотворение — как единственное, не разделяющее ответственность с целостным корпусом, хотя и не теряющее для него общезначимость. А книга стихотворений, в свою очередь, собирает и приращивает эти «частности». В том специальном случае, о котором вы спрашиваете, моя книга, думаю, особенно важна (приятно, как доказательство, что «Форбс» за февраль включил ее в число пяти важнейших на тему истории).
ДЛ → Можно ли как‑то соотнести ваши стихи с семантической поэтикой или значения слов уже не играют главенствующую роль и внимание читателя переключается на что‑то другое? Быть может, ваши стихи рождаются в результате языкового большого взрыва?
ИР ← Вот и хорошо, что ваши вопросы вызывают на откровенность, как бы оппонируя моему основоположному принципу авторской скромности. Так‑то они соучастны его самоутверждению, в духе методологии доказательств от противного. А здесь еще формой вопроса подсказана штампованная дерзость: так спросите у читателя!.. Если вы вспомните мою сентенцию: поэзия как язык молчания, то «что я могу еще сказать» вам? Значит ли это, что мне только и остается, что промолчать, в лучшем случае умалчивая в себе отвечание вопрошаемому смыслу? Но еще об этом дальше. Добавляет «вопрошаемости» и аналогия с мировым генезисом (последствием любезно упоминаемого вами — и настойчиво квазинаукой — большого взрыва), мыслимым хронотопично как центробежное самоудаление замысла Творения… Помните Гёльдерлина: «Знак бессмысленный мы…» Люблю его цитировать; его «язык на чужбине» — это ведь наш. «Портрет трагедии», по Бродскому. Наш портрет! Здесь, в человекопоэтическом высказывании, каждый знак самодовлеющий; форма языковой поверхности, в понятиях генеративной лингвистики, предельно наполненная глубиной молчания, творящей пустотой. И его, знака, глубочайшее значение, если даны силы все это выразить, само по себе дар Б‑жий. А что еще другое нужно читателю? Подающий знак мира и духа, чье окончательное мистически воткнуто в изначальное, не исчезающий из виду человек как субъект поэтической триады: автор, текст, читатель — про‑из‑носит смысл стихоТворения… И еще что до того «играющего роль», так это же хайдеггеровский «великий царственный ребенок», играющий без «почему».
ДЛ → Важна ли для вас визуальная (воображаемая, конечно) сторона поэтического текста?
ИР ← Ускользает полный смысл вопроса, но все же уловленное предполагается в «центр поэзии» (по Новалису)… Вы же понимаете, для знаковой системы нет ничего второстепенного. Вот видеомы — это не мое. А в общем и целом как представление, так и начертание восполняют культурологический мыслеобраз текста, формируют его идею, хотя их участие у меня предпочтительно и антиномично оставляет место протагониста симфонизму… А лучше бы, конечно, по обычаю, видеть как слышать, равняясь на я — народ Б‑жий при Синайском откровении… И, между прочим, иллюзорность миров точнее — и ранее — всяких означающих доказательно указывает на реальность автора гипертекста.
ДЛ → Судя по вашим текстам и интервью, философия и эстетические концепции представляют для вас большой интерес. Не могли бы вы расчертить — пусть пунктирно — наиболее близкие способы мыслить «поэтическое»?
ИР ← Вы знаете, помимо жизненных стремлений помышлять немыслимое‑как‑творение (и творение‑как‑немыслимое), мои в себе и для себя изыскания подкреплялись и приумножались многолетней необходимостью ведения поэтического клуба «Песнь Песней» при еврейском культурном центре. И там‑тогда для моих учеников лейтмотивом были умозаключения, герменевтическим обращением подходящие здесь‑сейчас: «поэзия учит мыслить, мышление — поэтизировать»; «поэзия — учение памяти и память учения» и т. п. Так вводится в определения и кодификацию, впрочем весьма условно, беспредельное и немыслимое. Иными словами, здесь‑сейчас‑бытие все еще находит себя в начале пути до конца без конца. Кратчайшим образом симплифицируя и выводя из метафоры, поэтическую субстанцию разумею как таковую в трехзначной сопринадлежности: не‑речь, измененная действительность, душа. Ее же составляют три категории: смысл, музыка, первозданность. В изложенных понятиях, полагаю, поэтическое — то есть поэзия позволяет мыслить себя, по взаимной желательности.
ДЛ → Интересна ли вам современная поэзия Израиля?
ИР ← Вопрос в том, достаточно ли энергии, времени, эрудиции, чтобы одному войти в близость многого — в нашем случае ныне числом информации близкого к бесконечности, стихотворного материала. При том что безудержное расширение вариативности зачастую манифестирует лишь ложную свободу. Но вот случаю Израиля это псевдо заказано столь строго, как настоящей поэзии в основе. Ибо на духовной вершине мира поэзия зиждется, как дышится. И здесь мой интерес, словно объективированное охлаждение творческого огня, застывает в недоумении: таланты вспыхивают, но редко. Какая т/я/у/га (клипа) их губит, лучше знать святоземцу… Но, согласно вышесказанному, пусть мои несторонние слова не воспринимаются оценочно, а хотя бы с пониманием. Интерес же вполне очевиден (речь о русской поэзии, заведомо с априорным субстратом безусловных культурных достижений, к тому же не случайно русско‑еврейских); на именах не настаиваю, да ведь каждый сам по себе. А вот Гали‑Дана Зингер, чьим самоотверженным служебным умением новое слово становится словом правды. Хотя отчаянный поиск, трансформируясь во внешнюю легкость, не до конца преодолевает гармонией свою искусственность и хаотичность. Но нет, что если это эхо первозданного хаоса Тоху… Совсем иные со‑звучия у тонкой неоклассичности значительного литератора‑эстета Александра Любинского… Однако что это я? Довольно, не обессудьте, пора возвращаться с ярмарки тщеславия. В поэтической обители заждалось слово — вечноединый образ живого самопознания. А сказанное мною — никому не в хлеб и не посягает отбить его, оставаясь хлебом позора в не‑сравнении с р. Яковом Шехтером. И вот здесь‑бытующий себе сам первый и верховный судья, скромнейшим присутствием подвижного (само)порождения представляющий свое «вот я» сокровенному лицу абсолютной свободы, своим голосом находит с ним общий язык! 

Евгений Голубовский: «Мой Юго‑Запад»

Ахматова, Лебедь, Ариэль