Александр Жолковский: «К роману меня совершенно не тянет»
Новый сборник виньеток филолога, писателя Александра Жолковского вышел в издательстве «АСТ» (об одной из предыдущих книг см.: Александр Жолковский: «Виньетка не просто байка — это литературный факт» // Лехаим. 2008. № 9). Александр Жолковский представил «Напрасные совершенства» в интервью «Лехаиму».
Денис Ларионов Ваши виньетки, отдельно публиковавшиеся в различных изданиях, воспринимаются исключительно как фрагментарные тексты. Их герои возникают из ниоткуда (из памяти повествователя) и исчезают в никуда (чаще всего умирают). Но книга «Напрасные совершенства» устроена таким образом, что велик соблазн прочитать ее как целостный текст: нечто среднее между романом воспитания и комедией положений. Насколько подобный читательский эффект искажает первоначальный замысел?

Обложка книги Александра Жолковского «Напрасные совершентва». М.: АСТ, 2015
А что герои — это вы хорошо подметили — исчезают в никуда, чаще всего умирают, то, с одной стороны, так оно и есть, такова, как говорится, c’est la vie, они уходят из моей жизни, я из их, а там и из жизни вообще, предполагаем жить, и глядь — как раз — умрем; а с другой — к этому располагает сама мемуарная установка, тем более избранный мной завиток жанра, требующий, чтобы все по возможности произошло и закончилось на отведенном, четко обрамленном пятачке и отрезке времени. В идеале — как у Мопассана, Бунина, Хемингуэя, Зощенко, Бабеля, с точкой, поставленной вовремя.
Но в книге виньетки надо было расположить в каком‑то порядке, и мы с редакторами (сначала в самом общем плане — с Еленой Шубиной, а затем, по ходу отделки, с Сашей Лесковской), остановились на хронологии — неизбежно приблизительной, поскольку строгая невозможна ввиду временно́й многослойности почти каждой виньетки. В результате и возникает соблазн интегрирующего прочтения, против которого возражать бесполезно, — в конце концов, все это и правда про меня, некоторые виньетки перекликаются, иногда одна подхватывает что‑то из другой. Но в целом хотелось бы, чтобы каждая читалась отдельно, в качестве этакой дискурсивной жемчужины, маленького, что ли, шедевра.
ДЛ Вы нередко обозначаете или как‑то обыгрываете еврейское происхождение персонажей. Появится ли виньетка о том, что такое «еврейский характер», о самой «еврейскости»?»
АЖ Спасибо, вопрос предсказуемый. Ответ: нет, такая виньетка не планируется и, думаю, не в моем духе. Во‑первых, хотя я охотно поминаю в виньетках факт своего еврейства, еврейство это не совсем полноценное. Я имею в виду не по крови и даже в какой‑то степени судьбе (с этим все, ой‑вей, в порядке, учитывая обеих бабушек, гибель маминых родителей в Бабьем Яру, да и мою собственную эмиграцию к вымышленным родственникам якобы в Израиль), а по воспитанию (советско‑интернационалистскому) и вкусам (среднерусско‑интеллигентским). На эти темы я однажды уже рассуждал в интервью Михаилу Эдельштейну, не знаю, что добавить нового. Есть также старая виньетка «Еврей ли вы?».
Не случайно, эмигрируя, я выбрал не Израиль (которому безоговорочно сочувствую), а Штаты, с их melting pot (плавильным котлом). И преподаю я русскую литературу, хотя, конечно, нельзя не отметить, что ее теория и история написаны во многом евреями — людьми светскими по своей ориентации, но, так сказать, талмудистского склада.
И вообще, у меня много коллег, как в России, так и в Израиле и Штатах, которые гораздо лучше меня знают иудаизм и еврейскую литературу, и мне совершенно ни к чему с некошерным рылом лезть в этот почтенный ряд.
ДЛ В одной из самых рискованных виньеток вы пишете о том, что «виньетист ставит на кон собственное “я”». А что составляет это «собственное “я”»? И как близко оно подходит к «я» ученого, чья работа тоже ведь связана с риском?
АЖ Ну, риск — не будем драматизировать — не экзистенциальный, а исключительно репутационный, но в мире литературы это в каком‑то смысле и есть вопрос жизни и смерти.
Прежде всего, о «виньеточном» авторском «я». Разумеется, это конструкция; что‑то выпячивается, что‑то скрывается, вернее, что‑то зарифмовывается, а что‑то отодвигается в нерелевантную тень. Авторская фигура строится по литературным образцам, что‑то от Ларошфуко, что‑то от Лимонова (поэта и прозаика, не политика), что‑то от Казановы, что‑то от Руссо («Исповеди»), что‑то от Зощенко («Перед восходом солнца»). Кстати, все это авторы, которыми я занимался как литературовед.
Соотношение моей мемуаристской маски с моей литературоведческой программой — вопрос интересный и сложный. Что общего? Ну желание быть верным каким‑то установкам на правду, новизну, независимость. Но дальше начинаются различия: литературоведческая ипостась претендует на «научность», серьезность, объективность, доказательность… А виньетистская пользуется правом на провокацию, игру, даже безответственность. Я знаю, что некоторые считают, что мои литературоведческие работы, особенно демифологизаторские, в частности ахматоборческие, нацелены исключительно на скандал, на обретение славы Герострата и так далее. Ничего подобного. Эти работы совершенно серьезны, просто они не по вкусу (не по зубам?) российскому культурному истеблишменту.
ДЛ В одном из интервью вы называете демифологизацию одной из задач вашей научной работы. Мне показалось, что в виньетках вы часто (но не всегда) проделываете ту же самую операцию: «по кирпичикам», что называется, разбираете картину мира интеллектуала, чей жизненный опыт связан с шестидесятничеством, еврейством, жизнью в Америке et cetera. Насколько это читательское впечатление соответствует вашим писательским задачам?
Александр Жолковский. Фото А. Павловского
Примечательнее, что аналогична реакция на мои демифологизаторские работы. В современном литературоведении есть важное, немного образное, понятие: институт литературы. Так вот, если буквализовать метафору, дирекция и ученый совет этого института поражают своей консервативностью, охранительностью. При слове «демифологизация» они буквально хватаются за револьвер. Они всегда готовы отстаивать статус кво, брать сторону сильного, в особенности «своего» сильного. В демифологизации они видят угрозу собственному профессиональному статусу. Особенно смехотворно в этом смысле поведение авангардоведов — то, с какой оскорбленной солидностью они отстаивают честь мундира своих подопечных, в свое время отпетых охальников и скандалистов. Или взять ахматоведов, которые бдительно оберегают ее священный культ от любых предположений о ее не укладывающейся в постные схемы человеческой природе, например о ее бисексуальности.
Или вот недавно я наткнулся в Сети на фрагмент мемуаров одного ныне покойного тартуского [footnote text=’См.: Б. Бернштейн. Юрий Лотман и ученый мемуарист, весь в белом‘]искусствоведа[/footnote], который дает мне отповедь и страстно защищает от меня Ю. М. Лотмана. Ну, конечно, как «своего» — сверстника и тартусца, главное же — как непререкаемо авторитетную фигуру. В этом конфликте сильным является, конечно, Лотман, а слабым — я, и автор берет сторону сильного. Причем конфликт это (описанный в моей давней [footnote text=’См.: А. Жолковский. О редакторах // http://www‑bcf.usc.edu/~alik/rus/ess/red.htm’]статье[/footnote]) — отнюдь не научный, не интеллектуальный и не идеологический, а вот именно правовой и силовой: я там отстаиваю свои авторские права от Лотмана, он выступает в роли авторитарного редактора, без моего ведома выбрасывающего что‑то из моего текста, и я в конце концов добиваюсь своего. Статья, на которую реагирует оппонент, посвящена властной природе редактирования, и Лотман там занимает проходное место как красноречивый пример передового ученого с авторитарными замашками. Но интеллигент советского разлива автоматически оказывается на стороне, так сказать, не Давида, а Голиафа.
Стоит ли после этого удивляться, как складывается баланс сил в современной общеполитической ситуации?
ДЛ Насколько вы интересуетесь современной русской литературой, в частности литературой 2000‑х годов? Вы анализировали тексты Эдуарда Лимонова, Льва Лосева, Ольги Седаковой, Сергея Гандлевского. А есть ли авторы — которым сегодня тридцать, сорок лет, — о которых вам хотелось бы написать?
АЖ Спасибо за внимание к наиболее современной части моих занятий. Для меня было интересным вызовом работать с текстами живых авторов, которые могут что‑то и ответить. Из числа живых (во всяком случае тогда) современников я писал также об Аксенове, Искандере, Саше Соколове, Бородицкой, Пригове… Это особый кайф. Но в основном я пишу о давно знакомых, давно интригующих, давно загадочных текстах, а это, как правило, классика. Редко удается лет сорок подумать над текстом, наконец что‑то в нем понять, написать об этом, и чтобы автор был еще жив. Такой опыт у меня был недавно с Фазилем Искандером, дай ему Б‑г здоровья, прозу которого я люблю с 1960‑х годов, всегда над ней думал и вот недавно опубликовал о ней несколько статей, причем имел возможность показать их ему самому. А в свое время успел показать Лидии Яковлевне Гинзбург эссе о ее прозе и даже внести некоторые подсказанные ею уточнения.
Но в целом должен вас разочаровать. Думаю, что новейшая русская словесность, за которой слежу не очень вплотную, попасть под мой аналитический скальпель не рискует.
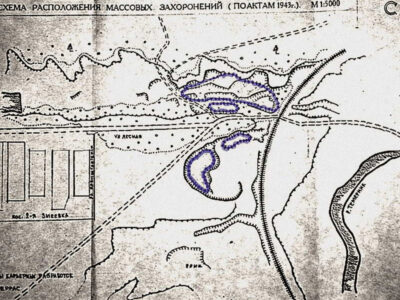
Змиевская балка: трагедия и война памятований

Быть лидером еврейского народа. Недельная глава «Бешалах»

