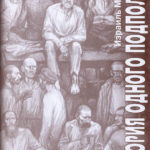Израиль Мазус: «Все равно остаются люди, которых ничем сломать невозможно»
13 мая ушел из жизни Израиль Аркадьевич Мазус, инженер‑строитель и писатель, член антисталинской молодежной организации «Всесоюзная демократическая партия» (1948), проведший шесть лет в лагерях и написавший об этом «короткий роман в рассказах и записях» «Где ты был?». Он также автор романа «Проспекты» и повести «Ожидание исповеди», исследователь подпольных молодежных групп 1926–1953 годов. «Лехаим» публикует интервью, взятое у Израиля Аркадьевича в прошлом году, но, к сожалению, не успевшее увидеть свет при жизни героя.
- И. А. Мазус на своей даче. Декабрь 2014. Фото Галины Зелениной
- Израиль Мазус. Из семейного архива
- Студенческий билет Израиля Мазуса. Московский авиационный технологический институт (МАТИ), выдан 16 ноября 1948. Музей и общественный центр «Мир, прогресс, права человека» имени А. Д. Сахарова
- Обложки романов Израиля Мазуса: «История одного подполья». М.: Права человека, 1998; «Березиnа». М.: Глагол, 2007; «Проспекты». М.: Макс Пресс, 2012
Я московский парень, кунцевский
Я был грудным ребенком, когда меня вывезли из местечка Теплик, из‑под Умани. Моя мама из семьи не очень успешного купца. Его звали Исрул, он умер перед 1929 годом, когда я родился, и мне дали его имя. Мама моя закончила уманскую гимназию, она была достаточно грамотным человеком. Местечковая жизнь, вся эта теснота ее тяготила. Ей хотелось другой жизни. И они с сестрами поехали в Москву, чтобы начать новую жизнь. И с того момента, как я себя помню, я помню себя только в Москве. Я московский парень, кунцевский.
А отец был лишенцем, и ему пришлось ехать в Крым, строить еврейский колхоз. Он назывался «Фрайлебен» — «Свободная жизнь». Но жизнь та еще получилась. Уже в середине 1930‑х моя тетка Рахиль, сестра матери, — а она была очень боевая женщина — пошла в Моссовет, устроила там скандал: «Вы везде говорите, что дети за отцов не отвечают, тогда почему он страдает, почему страдает мой родственник?!» И в результате с отца сняли лишенство, и он стал жить в Москве.
Мой отец всю жизнь проработал в торговле. Он окончил курсы и стал завмагом. Но фактически завмагом была мама. Она вела все учетные книги, у них никогда не было ни одной неприятности. Только однажды, когда уже я вернулся из лагеря, в середине 1950‑х, случилась такая история, что отца могли даже посадить. У него работала продавщица, вдова, ее муж — летчик‑испытатель — разбился, осталось трое детей. И вот она взяла из магазинного сейфа деньги. У нее были приятели‑летчики, которые должны были отвезти ее в Мурманск, там она собиралась купить меха, привезти их в Москву определенным людям, которые ей всю эту схему и нарисовали. Она должна была прилететь в понедельник и вернуть деньги в сейф. А во вторник отец, как заведующий магазином, должен был нести всю выручку в банк. И она не прилетела. Отец с матерью стали собирать эту сумму у своих приятелей в Кунцеве — еврейских торговцев. Собрали, и он положил эту сумму в сейф — в банк он уже не успел сдать и положил в сейф, потому что должна была прийти ревизия. И вот пришла ревизия, считают деньги, деньги завернуты в газету, а газета‑то — свежая. А деньги раньше должны были быть положены. И там один из таких, получекист какой‑то, наклонился к отцу и говорит: «Хаим, ты больше так не делай». Хотя его вовсе не Хаим звали, его звали Айзик.
Деньги собрали, а продавщицы все нет. Мать уже выяснила, что там нелетная погода. Причем отец во все это дело влез, а продавщицу не заложил. И вот, наконец, ночью, при мне, она пришла. Отец сидел, как Б‑г, за столом. Она вся тряслась, она бросила на стол эти деньги. Отец ее оскорблял, она терпела, она все терпела. Когда уже отец выговорился, сказал: «Садитесь, попьем чаю».
Потом, уже когда отец умер, она работала на станции «Кунцево» в магазине, который так и назывался «Железнодорожный». А у меня уже дети были, дочери, и она выбегала из своего магазина с кульками конфет, дарила. Я начал ходить другой дорогой, чтобы она этого не делала. Вот такая история.
В Москве надо по‑московски
В Кунцеве было много евреев. В основном торговцы и ремесленники: портные, плотники, жестянщики. Была домашняя синагога на чердаке. Я с отцом приходил туда, кепку надвигал на глаза. Вообще, папа ходил в синагогу только по очень важным делам и на праздники, на Йом Кипур особенно. Субботу он соблюдал через раз. Мама готовила, если что‑то такое, но сама относилась еще легче. Тут командовал отец: если скажет, будет суббота, не скажет — значит, не будет.
Я отчаянно любил играть в футбол. Мы играли с ребятами, и там кричали: «Давид, давай! Изя, пасуй!», и все такое. На футбольное поле, где мы гоняли мяч, приходило много девушек. Среди них всегда появлялась девушка с бутылкой молока и бутербродами. Она сидела, пила свое молоко и тоже кричала: «Давай!» Когда у нее все это заканчивалось, она собирала сумочку и уходила. И вот в 1945 году летом мне исполняется 16 лет, и я иду получать паспорт. Смотрю, в паспортном столе за окошком сидит эта девица. Когда она увидела мою метрику, она на меня посмотрела смеющимися глазами. «А я думала, — говорит, — что тебя не так зовут». Мне же кричали: «Изька! Изька!» И она, как паспортистка, раздумывала, какое у меня может быть имя: Изяслав, Израй, может быть, даже Исаак, поскольку видно, что еврейский парень. И она мне говорит: «Да разве ж можно в Москве жить с именем Исрул Айзикович? Нам дано право изменять эти имена. Хочешь, я тебя Игорем Александровичем запишу?» И мне показалось какое‑то пренебрежение в ее словах, мне это не понравилось, и я сказал: «Пишите, как есть». Она говорит: «Что ты надулся? Я же к тебе по‑хорошему. Ты же в Москве живешь. В Москве надо по‑московски». Я вспомнил, как отец играл в домино и его называли Аркадием. И говорю: «Да ладно, имя‑то оставьте, но только не Исрул, а Израиль. А отчество пусть будет Аркадьевич». Так я стал Израилем Аркадьевичем. Родители не обиделись, посчитали, что нормально. По‑московски.
Неприятно, что меня дурачат
Закончив школу, я поступил в МАТИ. Поначалу‑то я хотел стать врачом и поступал в 1‑й медицинский. Это был 1948 год. И вот я слово «жизнь» во вступительном сочинении написал без мягкого знака. Описка. И мне поставили двойку. Я забрал документы и отнес в МАТИ — авиационно‑технологический. И хорошо сдал все экзамены. Уже стал учиться там, записался в парашютный кружок. А через три месяца меня арестовали.

Студенческий билет Израиля Мазуса. Московский авиационный технологический институт (МАТИ), выдан 16 ноября 1948. Музей и общественный центр «Мир, прогресс, права человека» имени А. Д. Сахарова
Фактически главным толчком, с чего все началось, за что меня потом посадили, была «Молодая гвардия». Во время войны я следил за всеми боями, ходил на все хроники. Я тогда же узнал, что немцы уничтожают евреев — представьте себе, узнал от евреев, которые остались в живых, смогли перейти линию фронта и ходили по еврейским домам у нас в Кунцеве. Была, например, женщина, которая вылезла из ямы. Беженцы. Их было немало. Им собирали деньги, вещи. И они рассказывали. Меня выгоняли, но я слушал, я находил место, откуда можно было все слышать. И прежде, чем стали сообщать официально, я уже знал, что немцы это делают. Я хотел убежать на фронт, чтобы убивать немцев. У меня чисто родовая ненависть к ним проснулась.
А потом появился роман «Молодая гвардия», и такие споры пошли в школе. Я воткнулся в него сначала и просто его проглотил — весь роман. И уже на середине я почувствовал какую‑то неприязнь к этому тексту — из‑за Евгения Стаховича, из‑за того, что его сделали предателем. Я никак не мог в это поверить: так не бывает. Вот здесь что‑то и надломилось. Помимо того, я еще занимался комсомольской работой, я активный такой был, бывал на разных заседаниях в Кунцевском комитете комсомола, слушал все эти речи. А еще я бюст Сталина разбил и вынужден был остаться на второй год. И все это наложилось одно на другое, и мне стало неприятно, что меня дурачат.
Сейчас мне кажется, что идеи правды и добра лежат в основе еврейского воспитания. И в семьях невольно это становится какой‑то нормой. Поэтому эта ложь советская, которая очень хорошо начала чувствоваться в то время, именно еврейские молодые умы стала беспокоить. Например, это преувеличенное, совершенно, как к Богу, отношение к Сталину. Он же человек. Что касается «Союза борьбы за дело революции», они были чуть постарше. Ведь в 1948 году все это только начиналось, я этого еще не чувствовал, у меня было совершенно советское отношение к тому, что происходит в стране. А они‑то действительно чисто по‑еврейски все это почувствовали: не принимают в институты, увольняют с работы без объяснения причин. Но мою душу это задевало меньше, чем обожествление Сталина. И вранье, сплошное вранье. И компания наша — нас было четверо — была вся русская.
На ракетных шахтах страны
Я вернулся из лагеря в Москву и почти сразу женился. И понял, что надо кормить семью. Я поступил во Всесоюзный заочный политехнический институт на механический факультет и стал искать работу, переходил с одного места в другое и уже в 1958 году поступил в контору в системе министерства монтажных и специальных строительных работ, в которой я проработал до 1993 года. Я думал, что буду писать. Я сразу написал книжку рассказов «Где ты был?». Но я влип в эту работу. Мне это нравилось. Мне стройки нравились. Я строил проспект Калинина, автомобильный завод в Москве, работал на шоколадной фабрике «Красный октябрь». Я вентиляционщик по специальности, кондиционирование и вентиляция.
- И. А. Мазус на своей даче. Декабрь 2014. Фото Галины Зелениной
- Израиль Мазус. Из семейного архива
- Студенческий билет Израиля Мазуса. Московский авиационный технологический институт (МАТИ), выдан 16 ноября 1948. Музей и общественный центр «Мир, прогресс, права человека» имени А. Д. Сахарова
- Обложки романов Израиля Мазуса: «История одного подполья». М.: Права человека, 1998; «Березиnа». М.: Глагол, 2007; «Проспекты». М.: Макс Пресс, 2012
А потом контора, в которой я работал, в начале 1960‑х была приписана к министерству обороны. Это единственная контора, которая устанавливала системы вентиляции и кондиционирования воздуха на всех ракетных шахтах страны. В Байконуре, в Плесецке. Вот что это была за контора.
И наш главный инженер, который очень меня ценил, сам ходил куда‑то в КГБ и добился для меня допуска к секретным работам. Что было удивительно — я ведь не был реабилитирован, я был амнистирован. А у меня там друг был, Володя Фролов, тоже начальник участка в этой конторе, тоже с судимостью, и вот его не допустили, и ему пришлось уйти в другую контору. Этот Фролов был боевой офицер с огромным количеством орденов. Влюбился в Вене в немку. Она сказала, что согласна выйти за него замуж, когда дело дошло до постели, если они повенчаются в церкви — только так. Он из‑за нее с ума сходил. Короче, ему нашли костюм, он снял свою эту форму, думал, что никто ничего не видит. А его бац и в кутузку. И на 25 лет в Сибирь. Его везли в теплушке, не в столыпинском вагоне. А в теплушке можно взломать пол. Он с кем‑то там взломал пол, под Новосибирском сбежал, нашел воров, которые ему сделали паспорт. С этим паспортом он на Лене, в Ангарске, поступил в контору нашего министерства Минмонтажспецстроя и несколько лет там проработал. А за ним следили, за ним чекисты следили. Знали, что он получил паспорт, что он уже стал начальником участка, получал красные знамена, жил под чужой фамилией. И только в 53‑м, уже когда Сталин умер, его взяли и отвезли в Москву, на Лубянку. И по чистой освободили, для этого и привезли. Когда его стали спрашивать: «К тебе кто‑нибудь там приходил?» «Чего? Я — шпион? Вы что, я боевой офицер!» Когда он узнал, что я сидел, тут‑то у нас с ним и начался разговор! Тут‑то мы стали с ним самыми близкими друзьями.
Стране нужны строители, прагматики
А потом появился Виктор Глушков, человек, который занимался автоматизацией управления в Советском Союзе, разработал систему ОГАС, общегосударственную автоматизированную систему учета и обработки информации. Это совершенно потрясающий человек, которому советское правительство верило. Все это было связано с реформами Косыгина. Я толком ничего этого не знал, но некоторые соображения по поводу того, как избавиться от темных сторон строительной индустрии, у меня были, и я их высказывал. Мне были неприятны, например, приписки. Мне было неприятно, как мы у заказчика получаем деньги. Как мы пишем липу, как рабочим платили одно, а сами получали деньги совершенно другие. Вся советская власть была построена на лжи, так же были устроены и экономика, и строительство. Все врали!
Министерства должны были создать свои вычислительные центры. И я ушел в институт заведовать лабораторией вычислительной техники, не имея к ней изначально никакого отношения. И я стал набирать людей, программистов: Илья Шмаин, Алик Суханов, Миша Розенблюм. И я стал думать, как сделать такую систему в строительстве, чтобы она изменила отношение людей на стройке к своему делу, чтобы врать перестали. Идея была такая. На стадии проектирования с помощью вычислительной техники создать все коды, которыми пользуются монтажники. И потом создать все коды, которые используются заготовителями. То есть вот работают монтажники, вот они заказывают какие‑то изделия, на заводах их делают, и у каждого своя база. И нужно, подумал я, сделать общими коды для заготовителей и для монтажников. Тогда ты получаешь проект и ты в нем уже получаешь коды — тебе не надо ничего кодировать! Ты создаешь единую базу для всех. Ты должен пометить работы по проекту, составить перечень, чтобы показать, как они следуют одна за другой. Если этот документ тебе передается, если у тебя есть соответствующий алгоритм и ты знаешь нормы времени для выполнения каждой из этих работ, ты можешь получить и количество рабочих, которое тебе нужно, и ты можешь составить график.
Мы это делали для своей организации. А дальше каждая организация, следуя этому примеру, могла сделать такую же систему. Мы начали работу в 1977 году, и в 1979‑м вентиляционщики — только вентиляционщики — работали в Москве по рабочим нарядам и с документами, которые были сделаны в вычислительном центре. Мы сделали базу, и заготовители могли нашими кодами пользоваться. А с проектировщиками мы эту проблему еще не могли решить и стали решать.
И меня это захватило страшно. Так что я даже про литературу перестал думать. Хотя я посылал свои рассказы в «Новый мир», но их не печатали, потому что Твардовский всем лагерникам отказывал. Шаламов не мог напечататься у Твардовского. Твардовский боялся, боялся делать эту тему общедоступной. Но к концу 1970‑х, а особенно в 1980‑х я уже забыл про «Новый мир», я думал, что вот‑вот я доведу все это дело до конца, а потом мы это распространим на весь Союз.

И. А. Мазус на своей даче. Декабрь 2014. Фото Галины Зелениной
Разве это не интересно? С какими людьми я работал, кому подчинялся? Вокруг меня все время были порядочные люди. И мы делали какое‑то дело, и я надеялся, что оно к чему‑то приведет. Я вообще не думал, что советская власть рухнет так быстро! У меня в голове это не укладывалось, что вдруг она рассыплется, что окажется такой ничтожной. А ничтожной она оказалась потому, что ничтожные люди пришли к власти.
Я знал всех диссидентов. Я знал Красина, Якира, Литвинова, знал Наташу Горбаневскую. Я понимал, что люди они все очень хорошие. Но я понимал также, что такого рода оппозиция стране ничего принести не может, потому что здесь нужны строители, прагматики. Честные люди, прекрасно знающие свое дело, профессионалы здесь нужны. А вот эта кухонная оппозиция мне была неинтересна.
Воспринимать их в качестве творцов истории человечества — дело сомнительное, хотя их влияние, скажем, на того же Горбачева было огромным. Но они были нужны. Исторический смысл и наших антисталинских организаций в конце 1940‑х, и диссидентов 1970‑х заключается в том, что, какая бы тирания в стране ни была, как бы из людей ни делали автоматы, которыми можно все время манипулировать, все равно остаются такие люди, которых ничем сломать невозможно.

«Хумаш Коль Менахем»: Предостережение Яакова

Голос в тишине. Правила игры