[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2000 НИСАН 5760 — 4 (96)
ПОЭТ ПЕЧАЛИ, ГНЕВА И ЛЮБВИ
Матвей Гейзер
Как нам петь песнь на чужой земле?..
Хаим-Нахман Бялик – великий еврейский поэт и мыслитель, известный и популярный не только в еврейской среде. “Как все крупнейшие поэты, Бялик общечеловечен”, – сказал о нем М.Горький. “Имя Бялика, разумеется, было знакомо каждому образованному человеку в России, – писал в некрологе о нем Владислав Ходасевич. – Но знакомство это было довольно отдаленное, даже смутное. Бялика знали у нас по переводам, сделанным Вл. Жаботинским. Ряд его стихотворений был также переведен Вячеславом Ивановым, Федором Сологубом, Валерием Брюсовым и другими. При всех достоинствах этих переводов ими, конечно, не заменялось знакомство с подлинником.

Х.-Н.Бялик. Портрет работы Л.Пастернака. 1916 год.
Прочесть Бялика в подлиннике могли слишком немногие, потому что писал он преимущественно на древнееврейском языке, том самом, на котором была создана Библия, который после того, как еврейство утратило самостоятельное политическое бытие, постепенно перестал быть языком разговорным, но сохранился в литературе – и который теперь воскресает как разговорный в Палестине.
Еврейская поэзия, начавшая бытие свое с Книги Бытия, не пресеклась и в рассеянии... Еврейская муза была как бы выведена из ее тематического гетто, в котором она была обречена однообразию и провинциальности. Таким образом, преобразованное национальное сознание вывело еврейскую поэзию на простор поэзии всеобщей. Этим глубоким изменением своей жизни она всего более обязана Бялику”.
Мрачные века рассеяния, казалось, заглушили поэтический голос еврейского народа. А может быть, народ Израиля оставался верен обету, который он дал в годы вавилонского пленения – не петь песен Сиона на чужбине.
Но любовь к поэзии, ниспосланная евреям самим Б-гом, сопровождала их по дорогам средневековой Европы, по улицам еврейских местечек, черте оседлости бывшей царской России, Российской империи. Вероятно, образнее всего мысль эту выразил Бялик: «Многочисленные группы евреев, бежавших от меча и разгрома, из поколения в поколение, из века в век тянутся вереницами по дорогам со священными свитками в объятиях. Несметное количество отделенных людей из народа, синагогальных служек, портных, сапожников, умирают перед священными ковчегами, защищая свою святыню. Сколько скромных подвижников, скрытых праведников, людей, обрекающих себя на "добровольное изгнание" из религиозного рвения, скитаются с места на место, с посохом в руках и котомкой на плечах, храня в своем мешочке для талеса и филактерий свою священную и любимую книгу...» Впоследствии русский поэт Моисей Цетлин напишет:
Жили здесь мы долгие века.
Час пришел. Пылят опять дороги.
Бет га мидраш. Ветер и закат.
И в крови израненные ноги.
В небесах провидческие звуки.
Глас судьбы. Диаспора вечна.
Кладбища протягивают руки.
Нету сил. Но в путь велит она.
Пути диаспоры еще в XII веке привели евреев в Волынь, область на северо-западе Украины. Евреи жили здесь и во времена, когда земли эти отошли к Литовскому княжеству, и в годы, когда здесь владычествовали поляки, и позже, когда область эта стала частью Российской империи. Маленькое местечко Рады на Волыни стало знаменитым лишь тем, что в нем в семье местного мечтателя-неудачника Ицхока-Иосефа Бялика и его жены Дины-Привы в 1873 году родился сын Хаим-Нахман. По этой единственной причине оно вошло в еврейскую историю.
Забытые миром глухие углы...
Безрадостное детство выпало на долю Хаима-Нахмана. Отец его, стойкий неудачник во всех предпринимаемых им делах, умер от непосильно тяжелой жизни и тоски в 1880 году. Хаима-Нахмана забрал к себе дедушка, благочестивый еврей Яаков-Мойше, талмудист, живший в предместье Житомира. Именно в эти годы – а провел он в доме деда без малого десять лет – Хаим-Нахман полюбил Тору и Талмуд, стал ревностным талмудистом, что привело его к замкнутости, одиночеству, даже к отшельничеству. Мальчик познал таинства каббалы. Уже после бар-мицвы, решив получить образование более широкое по сравнению с тем, что дают в хедере, юный Бялик переезжает в ешиву в Воложине, где преподавали известные раввины XIX века. Но Х.-Н. Бялика привлекла туда также возможность получить, кроме религиозного, и светское образование, изучать русский язык.
Наряду с бедностью будущий поэт познал и счастье: его очаровала красота Полесья с ее березовыми лесами, чередующимися с необозримыми полями и заливными лугами. Это оставило неизгладимый след во всем творчестве Бялика. Всю жизнь его не покидали воспоминания детства.
Я рос одиноко, и в детстве безлюдном
Любил притаиться, уйти в тишину;
В душе моей жажда о светлом и чудном
Шумела, бродила, подобно вину...
Друзей было много: и пташка, и мошка,
И куст, и березка, и кучка грибов,
Луна, что стыдливо сияет в окошко...
(Пер. В. Жаботинского)
Уже в раннем творчестве Бялика звучит мотив, роднящий величайшего еврейского поэта XX столетия с его великим средневековым предшественником Иегудой Галеви. В нем, как и у Галеви, сначала непроизвольно, потом осмысленно пробуждается ностальгическая тоска по исторической родине:
Как нищий, стою перед нивой, могучей, веселой, богатой,
И мучусь своей нищетою, и сердце так шепчет упорно:
Не я вас, колосья, взлелеял, не я в вашем поле оратай,
Не я эти зерна посеял, не мне и собрать ваши зерна.
И все ж я люблю тебя, нива, и в сердце, тобою согретом,
Мне вспомнились пахари-братья на нивах моей Палестины.
Быть может, вот в это мгновенье они отвечают приветом
На мой молчаливый, но страстный привет из далекой
чужбины.
(Пер. В. Жаботинского)
Молодой Бялик, как и юный Галеви, посылает свой "молчаливый, но страстный привет" стране, которую никогда не видел, но она живет в его сердце, бережно хранившем предания предков.
По-видимому, под влиянием взрослых "одноклассников" (в молитвенной школе в Воложине с ним вместе учились старые евреи – знатоки еврейской истории и древних учений) Бялик в начале 90-х годов приступает к созданию автобиографической поэмы "Подвижник", которую завершил в 1895 году:
Еще сохранились на нашей чужбине
Забытые миром, глухие углы,
Где древний наш светоч дымится поныне.
Чуть видно мерцая под грудой золы,
Забитые души, унылые души,
Последние искры большого костра,
Там чахнут, как травка, средь зноя и суши
Без срока, без смысла, без зла и добра...
(Пер. В. Жаботинского)
И в этом забытом миром уголке "за печкой в одной из молелен-темниц" учится юный подвижник:
Не день, не неделю, не месяц он занят, –
Шесть лет в этом доме провел он подряд,
Здесь детство завяло, и юность уж вянет,
И выцвели щеки, и вылинял взгляд...
(Пер. В. Жаботинского)
В 1895 году поэт вопрошал о своем народе: "Зачем он родился и гибнет без цели?" Спустя два года он напишет стихотворение "Да, погиб мой народ", которое закончит неожиданной (может быть, даже для самого себя) мыслью:
Если стяг и взовьется, и вновь загремит
Звук трубы, предвещая неволе конец, –
Встрепенется ли труп, оживет ли мертвец?..
(Пер. Л. Яффе)
Конечно, можно не соглашаться, даже спорить с Бяликом – народ, пронесший учение предков и язык Торы через столетия, едва ли можно назвать трупом. Стихотворение это написано в конце XIX века, в пору реакции и расцвета антисемитизма. Десятью годами раньше поэт С.Я.Надсон написал свое знаменитое стихотворение "Я рос тебе чужим, отверженный народ":
Но в наши дни, когда под бременем скорбей
ты гнешь свое чело и тщетно ждешь спасенья,
в те дни, когда одно название "еврей"
в устах толпы звучит как символ отверженья, –
когда твои враги, как стая жадных псов,
на части рвут тебя, ругаясь над тобою, –
дай скромно встать и мне в ряды твоих борцов,
народ, обиженный судьбою.
Но Хаим-Нахман Бялик вовсе не считал еврейский народ "обиженным судьбою": скорее всего, его мучили обида, боль за то, что "рабский страх пред бичом, пыль вседневных забот", "гнет цепей вековых" иссушили ум народа, и он потеряет веру “в грядущий рассвет". Уныние – грешно. Смирение с унижениями, безмолвие – непростительны. Цена расплаты за это – высокая: евреи черты оседлости в XVI веке познали гайдаматчину, в XVII – жесточайшие погромы, чинимые казаками Богдана Хмельницкого. Бялик каждым своим словом поэта-пророка призывал свой народ к возрождению, к борьбе:
Что плоть вашу ели, – еще ль не довольно?
Вы дух отдадите во снедь добровольно?
(Пер. Вячеслава Иванова)
А если народ не воспрянет духом, то унижения и погромы неминуемы. 6–7 апреля 1903 года, в первый день христианской Пасхи, в Кишиневе и его окрестностях произошел жесточайший еврейский погром. Сотни убитых и раненых, искалеченные судьбы практически всей еврейской общины – вот цена, "уплаченная евреям" Кишинева не только за юдофобство Крушевана и его сподвижников, но и за то, что народ еврейский, "через ночь роковую скитаний бродя, ...веками не создал пророка-вождя". Здесь снова можно не соглашаться с Бяликом, достаточно вспомнить Реубейни, "еврейского рыцаря", попытавшегося поднять евреев средневековой Европы на борьбу с инквизиторами и вывести их в Палестину.
Можно возразить Бялику, но было бы несправедливо не видеть в нем пророка, который звал народ к борьбе за свою честь и достоинство. В своей маленькой поэме об Иисусе Навине он, напоминая о жертвах, принесенных народом во время Исхода из Египта, писал:
Но вперед, без грусти по телам отставших,
Жаждавших неволи и рабами павших!
...Пусть им сладко снится дальний край неволи,
Прелести спокойной, сытой, рабской доли...
В путь безвестный, новый! Край оставьте дикий,
Но в груди восторга заглушите крики!
В новый край идешь ты, где не будет манны,
В край, где хлеб добудет труд лишь безустанный
Есть на белом свете, за пустыней сонной,
Край широкий, вольный, солнцем озаренный...
(Пер. Л. Яффе)
В поэзии Бялика более всего поражает духовная свобода. Откуда явилась она к поэту, выросшему в местечке на Волыни?
И свобода его так естественна, что он желает внушить ее народу своему, смирившемуся с неволей, страхом и гнетом:
Не проснется он сам без ударов бича,
Не воспрянет к борьбе без угроз палача:
Цвет увядший, сухой и роса не живит!..
(Пер. Л. Яффе)
В стихотворении "Да, погиб мой народ", опубли-кованном в 1897 году, Бялик обращается к теме гибели еврейского народа:
И объятый тяжелым, губительным сном,
Мой народ не поднялся в порыве одном,
Не почувствовал сил и восторга прилив,
Слыша радостный отклик на скорбный призыв.
И, сынов возвращенных увидя своих,
Он руки не простер, и не принял он их,
И в людской суете и под золота звон
Гром могучий затих, Б-жий глас заглушен,
И в отравленном сердце средь пошлых утех
Б-жье слово давно вызывает лишь смех...
Да, погиб мой народ, он к позору привык,
Без порывов и дел он постыдно поник.
Гнет цепей вековых – беспредельный позор –
Иссушил его ум, ослепил его взор.
Он к неволе привык, и его лишь гнетет
Рабский страх пред бичом, пыль вседневных забот.
Извиваясь, как червь, в бездне муки и бед,
Разве может он верить в грядущий рассвет,
Порываться к далеким, незримым лучам
И вещать свое слово грядущим векам?..
(Пер. Л. Яффе)
К концу XIX и особенно в начале XX века революционная ситуация охватила Россию. Поэт-философ Бялик, конечно же, понимал, что "политическое невмешательство" в жизнь народов, среди которых жили евреи, явило бы собой его мудрость, ниспосланную ему Б-гом. Поэт понимал, что любая политическая активность евреев диаспоры, в черте оседлости тем более, может стать причиной катастрофы для них. И он убедился в этом, посетив Кишинев вскоре после погрома. Жестокость и зверство погромщиков были здесь сродни действиям средневековой инквизиции. Разрушены тысячи еврейских домов, ранены, изуродованы сотни людей, 49 человек погибли. Как известно, кишиневский погром осудили Лев Толстой, Владимир Короленко и другие русские писатели. Свои впечатления об увиденном и пережитом Бялик выразил в поэме "Сказание о погроме", которая стала классикой не только еврейской, но и русской литературы благодаря прекрасному переводу Владимира (Зеева) Жаботинского.
Известно (об этом еще будет сказано ниже), как повезло Бялику с переводами его поэзии на русский язык. И все же лучшим его переводчиком был Жаботинский. Сам Жаботинский вспоминает о своей работе над стихами Бялика: «Я жил тогда в Одессе. Были мы с поэтом Бяликом соседями по даче. Меня потрясли его стихи, и я решил перевести их. Он помогал мне в переводе – объяснял места оригинала, которые мне не удавалось понять. Мы сблизились в эти недели... В то лето я очень любил его за чрезмерную скромность. Я показал ему свой перевод на древнееврейский язык "Ворона" Эдгара По, он предложил мне сделать несколько исправлений и в заключение сказал: "Но звучание искупает все"...
Я послал перевод стихов Бялика в различные издательства Петербурга: все они отказали, кроме одного, которое предложило мне четыреста рублей за отказ от всех прав, независимо от того, появится ли книга в одном или многих изданиях». Далее в "Повести моих дней" В. Жаботинский рассказывает о мытарствах с изданием книги стихов Бялика, о том, как ему удалось добиться своего: начиная с 1911 года за короткий срок вышло семь изданий книги "Бялик. Песни и поэмы. Переводы В. Жаботинского" тиражом свыше 35 тысяч экземпляров. Как отмечает в упомянутой книге переводчик, "...некоторые утверждают, что число читателей Бялика на русском языке превышало число тех, кто читал его на древнееврейском. Если это правда, то благодаря Бялику, не мне..."
А теперь вернемся к "Сказанию о погроме" в переводе В.Жаботинского:
...Встань и пройди по городу резни,
И тронь своей рукой, и закрепи во взорах
Присохший на стволах и камнях и заборах
Остылый мозг и кровь комками: то – ОНИ...
И загляни ты в погреб ледяной,
Где весь табун, во тьме сырого свода
Позорил жен из твоего народа –
По семеро, по семеро с одной.
Над дочерью свершалось семь насилий,
И рядом мать хрипела под скотом:
Бесчестили пред тем, как их убили.
И в самый миг убийства... и потом,
И посмотри туда: за тою бочкой,
И здесь, и там, зарывшийся в сору,
Смотрел отец на то, что было с дочкой,
И сын на мать, и братья на сестру.
(Пер. В. Жаботинского)

Владимир (Зеев) Жаботинский.
Поэма была создана в 1904 году, но сегодня она волнует читателя, быть может, не меньше, чем в пору ее написания.
...Огромна скорбь, но и огромен срам,
И что огромнее – ответь, сын человечий!
Иль лучше промолчи... Молчи! Без слов и речи
Им о стыде Моем свидетелем ты будь.
И, возвратись домой в твое родное племя,
Снеси к ним Мой позор и им обрушь на темя,
И боль Мою возьми и влей им ядом в грудь.
И, уходя, еще на несколько мгновений
Помедли: вкруг тебя ковер травы весенней,
Росистый, искрится в сиянье и тепле.
Сорви ты горсть и брось назад над головою,
И молви: Мой народ стал мертвою травою,
И нет ему надежды на земле.
Нет, это уже не поэт обращается к народу, а сам Б-г, ибо, как писал Б. Пастернак:
Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба.
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.
Читая и перечитывая поэму "Сказание о погроме", сегодняшний читатель не усомнится, что написана она не пером, а кровью и продиктована не столько чувством скорби, сколько гневом и любовью.
Самая жалкая сторона еврейского упадка.
Владимир Жаботинский пишет, что раздумывая о судьбах своего народа, «...в стихотворении "Вот она, кара Небес", Бялик подходит вплотную к самой печальной, самой малодушной, самой жалкой стороне еврейского упадка – к ассимиляции. Рост поэта слишком велик для обыденной полемики против людей или партий: он трактует ассимиляцию с высоты как судья, а не как противник и охватывает всю глубину этого уродства с редкой остротой анализа, обличающей в авторе мыслителя почти вровень ростом с поэта. Бялик не останавливается на видимых признаках болезни, таких как утрата национального языка или забвение национального прошлого. Он подходит прямо и непосредственно к самой душе ассимиляции, вскрывает и расчленяет без жалости эту маленькую, съежившуюся душу – и не находит там ничего, кроме самого глубокого, самого безграничного из унижений. Что особенно поражает поэта, это – искренность рабства, рвение и усердие не за страх, а за совесть, вносимое денационализированным евреем в свою барщину; это не просто порабощенный человек, несущий ярмо по принуждению, это – раб сознательный, раб с увлечением, охотно целующий руку. "Величайшей из казней Б-жьих" называет Бялик эту извращенную черту, эту способность внутреннего приспособления к неправде, это умение "отрекаться от собственного сердца"».
Вопреки мнению Ленина, считавшего ассимиляцию евреев в России процессом не только прогрессивным, но и единственно перспективным, Бялик в течение всей своей жизни испытывал искреннее презрение к ассимиляции. В предисловии к книге о художнике Л. Пастернаке (Берлин, 1924) он пишет: "Душа их (ассимилированных евреев. – М.Г.) была отрезана от своего народа. Кров их народа представляется им чересчур бедным и тесным, чтоб поселить там свою широкую душу, и, выйдя искать великие дела вне его границ, они забыли его стезю навеки. Единственная дань, которую они отдали своему народу, была только несколько капель крови при обрезании, вскоре после рождения, и холодный труп – могиле на еврейском кладбище под конец, после смерти. Все остальное, все, что между этим: свет их жизни, мощь своей молодости, избыток духа и изобилие силы, крики души и биения сердца, все сокровенное и дорогое, накопившееся в их крови силой поколений и заслугами предков, – все это они принесли добровольно, как всесожжение на жертвеннике Бога чужого народа". Упоминая о таких выдающихся явлениях искусства, как "Слепой портной" Антокольского, "Писец Торы" Израэльса, Бялик не просто упрекает, а обвиняет этих художников едва ли не в предательстве своего народа только за то, что преобладающими в их творчестве были русские темы.

Патриархи еврейской литературы, слева направо:
Менделе Мойхер-Сфорим, Шолом-Алейхем, Бен-Ами, Бялик.
Здесь можно не только не согласиться, но и спорить с Бяликом. Да и Л.Пастернак в своем письму к нему отмечает, что еврейского искусства в России в ту пору еще не было: “Быть оно может только на родной своей земле, ибо всякое национальное искусство исходит из родной жизни и ею живет". И с этой точки зрения как армянин Айвазовский, так и евреи Антокольский и Левитан – русские художники. Картину "Вечерний звон", одну из самых проникновенных своих работ, Исаак Левитан написал в 1892 году, в пору изгнания евреев из Москвы (в тот год из Москвы были выселены 20 тысяч евреев – практически все, кроме купцов 1-й и 2-й гильдии). Оказавшись по состоянию здоровья в Ницце, он написал художнику А.М.Васнецову: "Воображаю, какая прелесть теперь у нас на Руси – реки разлились, оживает все... Нет лучше страны, чем Россия!" (весна 1894). Можно понять Левитана...Можно понять и Бялика, ибо не видеть его искреннего желания сохранить не только еврейскую культуру, но и евреев как нацию, было бы неправильно.
Бялик понимал, что активное включение евреев в социально-политические процессы в России не принесет им духовной свободы, а вероятнее всего, приведет к их полной ассимиляции. Помнил он, что Исход евреев из Египта был обусловлен тем, что они хранили верность своему языку, своим обычаям, своим именам. И, разумеется, он не мог воспринять мнения Сталина о том, что евреи – это общее название различных народностей, объединенных общим происхождением от древнееврейской народности, жившей в Палестине до первых веков нашей эры.
Время многое поставило на свои места. В российских изданиях последних лет встречаются статьи, в которых евреи определяются как народ. А вот с понятием "ассимиляция" – сложнее. Состоялась ли она в Советском Союзе? Думается, нет... А как же имена русских поэтов, больших русских поэтов - Пастернака, Мандельштама, Маршака, Слуцкого? Не являются ли они свидетельством того, что она все-таки состоялась? А огромное количество смешанных браков?
Однако, если считать, что ассимиляция состоялась, то как объяснить возникновение жгучего интереса к своим историческим корням нынешней еврейской молодежи? И чем объяснить массовую эмиграцию, по сути исход, евреев в Израиль, в страну, где жизнь сегодня непроста и небезопасна? Чем объяснить сегодняшний ренессанс еврейской общинной жизни в России? А если такова сегодняшняя реальность, то Х.-Н. Бялик, по-видимому, был совершенно прав, написав:
Нам и смерть не страшна – уж она
Нас давно ослепила
И в рот нам продела узду;
На устах у нас – гимн возрожденья
И с ним под звон кимвала
Мы до гроба допляшем в бреду...
(Пер. В.Жаботинского)
Поэт, своей жизнью и творчеством сделавший все, чтобы вернуть народу Гимн свободы, имел право после кишиневского погрома с такой шекспировской силой воскликнуть:
Эй, голь на кладбище! Отройте там обломки
Святых родных костей, набейте вплоть котомки
И потащите их на мировой базар
И ярко, на виду, расставьте свой товар:
Гнусавя нараспев мольбу о благостыне,
Молитесь, нищие, на ветер всех сторон
О милости царей, о жалости племен –
И гнийте, как поднесь, и клянчьте, как поныне!
(Пер. В. Жаботинского)

Бялик в 1903 году.
Переводчик от поэта только языком разнится...
Удивительный парадокс: быть может, самый национальный еврейский поэт, поэт, возродивший стихосложение на языке Торы, оказался первым еврейским поэтом, в русской культуре не только замеченным, но и признанным, переведенным на русский язык самыми значимыми поэтами Серебряного века. Стихи Бялика "Истинно, и это – кара Б-жья", "Завод", "Младенчество", "Да будет удел наш безмолвный..." перевел Вячеслав Иванов, поэт, по мнению Н.А.Бердяева, ставший центральной фигурой русского культурного ренессанса начала XX века, самый замечательный человек эпохи, богатой талантами. Первое из этих стихотворений, "Истинно, и это – кара Б-жья", было воспринято как явление мировой поэзии. Написанное в 1905 году под впечатлением увиденного в Кишиневе после погрома, в блистательном переводе Вячеслава Иванова, оно сделало трагедию еврейского народа трагедией и русского народа.
Очаг развалился, мяучит во мгле
Голодная кошка в остылой золе:
Застлалось ли небо завесою пепла?
Потухло ли солнце? Душа ли ослепла?
Лишь крупные мухи ползут по стеклу,
Да ткет паутину Забвенье в углу.
В трубе с Нищетою Тоска завывает,
И ветер лачугу трясет и срывает.
Представляется интересным привести этот же отрывок из упомянутого стихотворения в переводе В. Жаботинского:
Тронете печь – холодна, и кошка в золе остылой
Мяучит от стужи и страха.
И сядете в скорби тупой: снаружи – ливень унылый,
В сердце – груда пепла и праха,
В окнах – сонные мухи застряли в треснутой раме,
По углам паутина да мыши,
И нищета, нищета воет и стонет над вами
Где-то в трубе, на крыше...
Сравнивая эти два перевода, еще раз пожалеешь, что не знаешь языка, на котором писал Бялик. Кто точнее передал еврейскую трагедию – Вячеслав Иванов своим переводом: "Застлалось ли небо завесою пепла?/ Потухло ли солнце? Душа ли ослепла?" – поэт, не знавший языка оригинала, или В. Жаботинский, эту же мысль выразивший словами: "И сядете в скорби тупой: снаружи – ливень унылый,/ В сердце – груда пепла и праха..." Вопрос этот в данном случае сам по себе риторичен... Впрочем, отчасти на него ответил русский поэт Тредиаковский, сказав, что "Переводчик от творца только именем разнится".Сам же Бялик по поводу переводов говорил: "Читать поэзию в переводе – как целовать женщину через вуаль". Впрочем, рассуждения эти иррациональны, в каждом из них есть доля юмора, шутки, но немало и серьезного.
Здесь, по-видимому, уместно вспомнить стихи поэта А.Межирова:
И вновь из голубого дыма
Встает поэзия, –
Она
Вовеки непереводима –
Родному языку верна.
Однако совершенно очевидно, что без переводов не было бы понятия "всемирная литература" и даже Шекспир или Гете оставались бы поэтами национальными. Истинная же литература в определенном смысле наднациональна, оставаясь при этом национальной. Не оставляет сомнений, что и сегодняшний читатель в России с благодарностью будет произносить имена талантливых русских поэтов, подаривших нам достойные переводы Бялика.
В заключение этой части очерка хотелось бы привести одно из лучших стихотворений Бялика "Так будет – найдете вы летопись сердца" в замечательном переводе Федора Сологуба:
И длилась молитва, как дни его жизни,
Но Вышняя сила
Дала, что не надо, – в единой надежде
Отказано было.
До смерти душа не отчаялась в Б-ге,
Ждала утешенья,
И сердце молилось, и умерло сердце
Во время моленья.

Рукопись стихот
ворения Бялика "Ницоци" – "Моя искра ".
Палестина в судьбе Хаима-Нахмана Бялика
Впервые на Землю Обетованную нога Бялика ступила в 1909 году. Его сразу же удивило и восхитило многое, но прежде всего энтузиазм, с которым новые поселенцы-евреи осваивали новую жизнь, их вера в будущее. И еще поэт увидел, как популярно его творчество на этой древней земле. Его стихи изучали в школах, их перекладывали на музыку...
Разумеется, сердцем и разумом он давно уже бродил по этой земле, бредил ею, она была для него и началом Торы, и ее продолжением.
Окончательно же в Палестину Бялик переехал спустя 15 лет, в 1924 году.
Почему так затянулось его возвращение в страну, которую он так любил и о которой мечтал? Он давно понял, что "евреи, оплодотворяющие мировую культуру, подобны рабочим, которые трудятся на фабрике, принадлежащей другим. Принадлежащей не им, а, добавлю, владельцу..." Он продолжал жить и работать в Одессе, надеясь возродить иврит и еврейскую культу-ру на этом языке в России.

Бялик с друзьями в Палестине. 1909 год.
Что же еще "удерживало" Бялика в России после его первой поездки в Палестину? Возможно, он надеялся на победу социализма в России, так как издавна считал, что "социализм в лучшем его проявлении есть плод еврейского духа..." Но вскоре жизнь развеяла его надежды.
С первых лет, пожалуй, даже с первых дней своего существования советская власть повела жестокую атаку не на евреев, а на иврит. Бялик, убежденный в том, что язык – это кристаллизованный дух народа, не мог примириться с этим. В 1921 году он едет в Москву, обращается к своему старому другу и почитателю М. Горькому, чтобы тот ходатайствовал перед Лениным о разрешении ему, Бялику, выехать за границу. Горький выхлопотал ему такое разрешение. Сохранилось любопытное свидетельство об этом приезде Бялика в Москву. В письме к Максимилиану Волошину от 14 марта 1921 года Марина Цветаева сообщает: «Сейчас в Москве Бялик и еврейский театр "Габима", режиссер Станиславский». Это свидетельство и того, что лучшие поэты Серебряного века знали Бялика.
После некоторых мытарств осенью 1921 года Бялик оказался в Берлине, где он вскоре создал еврейское издательство, "чтобы свеча еврейских знаний не погасла в чужих краях..." В ту пору в Берлине жил весь цвет идишистской культуры бывшей царской России: Д. Бергельсон, Д. Гофштейн, Л. Квитко, П. Маркиш.

Бялик (в центре) среди лидеров еврейской общины и преподавателей школ Яффо во время его первого посещения Палестины. Слева от него – Равницкий. 1909 год.
В Палестину Бялик приехал в 1924 году, дом его в Тель-Авиве стал истинным центром литературной жизни возрождающегося Израиля (впоследствии в этом доме будет создан мемориальный музей Бялика). В августе 1925 года поэт в составе палестинской делегации выезжает в Вену для участия в работе 14-го Всемирного сионистского конгресса. Интересно, что в работе этого форума участвовали члены австрийского правительства, а также Альберт Эйнштейн. Вернувшись из Вены, Бялик настолько увлеченно занялся делами культурной жизни палестинских евреев, что даже перестал писать стихи. Он сотрудничал с театром "Габима", в 1926 году приехавшим в Палестину, внес свою лепту в создание Еврейского университета в Иерусалиме, был одним из инициаторов основания Художественного музея в Тель-Авиве. На открытии университета в Иерусалиме Бялик произнес пророческие слова: "Мы должны поторопиться и зажечь здесь первый светильник образования, науки и всех родов интеллектуальной деятельности а Израиле, пока свеча еврейских знаний не погасла в чужих краях". Бялик много ездит по Европе, рассказывая о жизни евреев в Палестине. Художник Леонид Пастернак, наблюдая эту сторону деятельности Бялика, как-то заметил: "Мне кажется, что в Бялике слишком много от просветителя". И в сегодняшнем Израиле просветительский след поэта сохранился в духовной и культурной жизни страны.

Рисунок Ицхака Франкеля. Тель-авивский чистильщик обуви трудится над башмаками Бялика.
"Вещать свое слово грядущим векам..."
В чем особенность Бялика? Он был поэтом-пророком, ревностным хранителем языка иврит, культуры и истории народа, его породившего. Находясь под влиянием Ахада-ха-Ама, основателя духовного сионизма, Бялик с благоговением и благодарностью относился к нему, не раз посылал ему свои "благословения".
В своей статье "Галоха и Агода", написанной в начале века, в пору, когда Бялик был уже активным участником сионистского движения, он писал: "У Галохи – лицо суровое, у Агоды – улыбающееся. Первая педантична, строга. Вторая – уступчива, снисходительна". Бялик утверждает, что Агода со своим "поэтическим ароматом, стремительным и подвижным стилем есть сфера непосредственного чувства".

Бялик и Шагал на скачках в Тель-Авиве. Крайний справа – главный сефардский раввин города рабби Бенцион Узиэл. 1931 год.
Поэзия Бялика – это и есть Агода в наивысшем ее проявлении. Можно в подтверждение этого привести немало его стихов, но ограничимся отрывком из упомянутой статьи: "Целый ряд поколений и слоев еврейства грешили по отношению к Агоде, прерывая жизненную связь между нею и собой".
В 1909 году Бялик вместе с известным еврейским журналистом и мыслителем И. Равницким издал антологию сказаний, притч, цитат, изречений из Талмуда и Мидраша, назвав ее "Агодой" Переводы для этой книги были выполнены поэтом С.Фругом, писавшим на русском языке. Очевидно, что лучшие стихи Бялика могли быть написаны только поэтом, по-настоящему знающим и искренне любящим Агоду. В подтверждение этой мысли приведем лирическое стихотворение, чем-то напо-минающее стихи из “Песни песней”:
Между Тигром и Евфратом
На пригорке, на горбатом,
В листьях пальмы, вся блистая,
Княжит пава золотая.
Я взмолилась златокрылой:
Ты сыщи мне, где мой милый!
Подхвати его на месте
И, связав, умчи к невесте.
А не свяжешь, или нечем, –
Кликни зовом человечьим
И скажи... А что – не знаю...
Ты скажи, что я сгораю.
Скажешь: сад расцвел богато,
И зарделся плод граната –
Но замки-ворота целы,
И не сорван плод созрелый.
...Вот и ночь. Туман пронзая,
Взмыла пава золотая,
Взмыла к небу и пропала –
И объятье не сдержала.
И с утра до темной ночи
Подымаю к тучкам очи:
Тучки, белые туманы,
Где же милый мой желанный?
(Пер. В. Жаботинского)
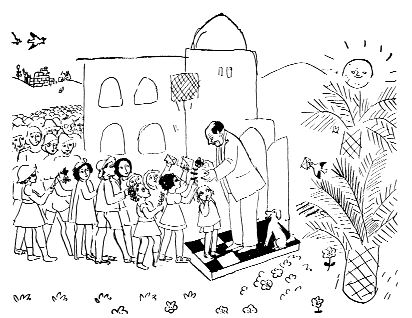
Школьники Ишува поздравляют Бялика с 60-летием.
Рисунок Нахума Гутмана. 1933 год.
Весьма интересно стихотворение Бялика "Последнее слово", написанное им в начале века на иврите и им же переведенное на идиш. В 1905 году это стихотворение было переведено на русский язык С.Я.Маршаком. Состоялось ли знакомство этих двух поэтов – сведений об этом нет. Но в 1905 году, находясь в Ялте в семье Горького, опечаленный известиями о еврейских погромах в России, Маршак пишет В.В.Стасову: "Много работаю, масса читаю и пишу. Взялся я переводить Бялика. Что за чудный поэт! Какая сила!" До нас дошел лишь один перевод Маршака из Бялика:
Бежать вы будете, как тени,
из края в край, из дома в дом,
и град вас встретит оскорблений,
как нищих на пиру чужом.
Просить пойдете ради Б-га,
неся презрения печать.
В рубище, стоя у порога,
начнете раны открывать,
толпе показывать спеша,
и руку жалобно прострете,
и низко голову пригнете,
прося несчастного гроша.
И вам земля могилой станет,
беззвездной будет ваша ночь,
и жизнь, как мертвый лист, увянет,
ваш стон развеет вихрь прочь.
Уж гром гремит, идет гроза.
Пусть тяжела падет слеза,
как весь наш непрощенный грех, –
вы все услышите лишь смех.
Ваши мольбы не долетят
до трона вечного Творца.
Вас вихрь умчит, поглотит ад,
ад без границ и без конца.
Значимость великого поэта не просто определить словами. Быть может, наибольшая заслуга Бялика перед своим народом в том, что он первый из поэтов диаспоры, отрицая жалобы, нытье, плач как формы существования евреев, проклинает все эти понятия и призывает народ к борьбе за воплощение высокого еврейского духа, за самоопределение. Только это может сделать еврейский народ воистину свободным, позволит ему сохранить свою самобытность среди других народов, с которыми он на протяжении ногих веков живет бок о бок.
Творчество Бялика войдет в Книгу Книг еврейской поэзии, а имя его навсегда останется в истории нашего народа.

Похороны Бялика в Тель-Авиве. 1934 год.
Повествование о Хаиме-Нахмане Бялике хотелось бы закончить словами М. Горького: "Для меня Бялик – великий поэт, редкое и совершенное воплощение духа своего народа, он – точно Исайя, пророк, наиболее любимый мною, и точно богоборец Иов... Мне кажется, что народ Израиля еще не имел – по крайней мере на протяжении XIX века – не создавал поэта такой мощности красоты".

Израильская марка, посвященная Бялику. 1958 год.
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
E-mail: lechaim@lechaim.ru