[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2009 СИВАН 5769 – 6(206)
Одесские новости и одесские редкости
Леонид Кацис
«Одесские новости» – так называлась некогда знаменитая газета, в которой кто только ни печатался. Сейчас же это название кажется наиболее подходящим для обзора одесской литературы и книжной продукции о русско-еврейской Одессе последних полутора веков. Обзор, а не серия рецензий уместен здесь потому, что книги эти во многом дополняют друг друга и даже словно бы вступают в диалог.

Практически все издания, о коих пойдет речь, отпечатаны тиражом от 100 до 350 экземпляров. И это еще одна причина, по которой нам захотелось рассказать об этих одесских раритетах куда более широкому читателю «Лехаима».
Начнем со 100-экземплярного сборника «Кирсанов до Кирсанова»[1], составленного по материалам Одесского литературного музея Аленой Яворской и Евгением Голубовским (последний написал и предисловие к нему). В книгу вошли стихи Кирсанова, написанные с 1916 до 1922 года (т. е. первые из помещенных здесь текстов созданы одесским вундеркиндом в 10 лет). О самых ранних кирсановских стихах Голубовский пишет: «Как видно, слыша разговоры родителей о еврейских погромах, о сионизме, о Палестине, по сути первые стихи (как, кстати, и Самуил Маршак почти в таком же возрасте) он посвящает возможности создания еврейского государства. Маршак назвал этот свой юношеский цикл “Сиониды”. Кирсанов не нашел названия своему циклу, но термин “Сиониды” здесь очень уместен. Эта тема обрывается через два-три года».
Здесь, в общем-то, все верно, кроме одного. Маршак писал свои «Сиониды» в начале 1900-х годов, когда Сионистский конгресс только-только принял решение о создании еврейского государства в Палестине. А юный Кирсанов стал сочинять уже после того, как стала известна Декларация Бальфура и войска генерала Алленби вошли в Иерусалим. Дата под «сионидами» Кирсанова – начало 1918 года, и содержание соответствующее: «Это не был призрак страшный, / Нет, то вестник счастья был, / Весть свободы Иудеи / Этот первый нам открыл! / Им восстание свершилось / Или Б-жья кара / Уж на турок обрушилась? / Нет, Британией великой, / Также волей Короля / Будет дана иудеям / Иудейская земля!»
И еще несколько аналогичных полудетских стихотворений юного Самуила Корчика – будущего Семена Кирсанова, – навеянных не столько рассказами о погромах, сколько потрясшим далеко не только 10-летних отроков событием, завершившим 1800-летний период еврейской истории. Эти стихи, бесспорно несовершенные и газетные, типичны для своей поры и бесценны для понимания того, как дети еврейских родителей в первые десятилетия XX века входили в русскую литературу. Подобные подборки позволяют, как мы увидим, выстраивать настоящую типологию духовного развития русских евреев, даже ушедших в итоге из русско-еврейского мира.
Многие стихи Кирсанова написаны под существенным влиянием не только очевидного Хлебникова времен первой мировой и Гражданской, но и не ставшего еще полноправным имажинистом Вадима Шершеневича и т. д. Если же сопоставить древнерусские вариации Кирсанова с аналогичными русскими патриотическими стихами Э. Багрицкого, то не покажется странным и покровительство старшего товарища юному Семе. В любом случае выявление одесской (и «внеодесской») поэтической родословной Кирсанова можно только приветствовать.
Если книга «Кирсанов до Кирсанова», будучи библиофильским изданием, не претендует на научность, то статья ее составителя Алены Яворской «Рукописи Семена Кирсанова в фондах Одесского литературного музея» в сборнике «Дом князя Гагарина»[2] имеет абсолютно иной характер. Это и подробное описание той коллекции ранних рукописей Кирсанова, на основе которой подготовлена проанализированная выше книга, и история собирания этих рукописей, и археографическое описание стихотворных текстов, писем и других документов поэта, и характеристика тех материалов кирсановского архива последующих десятилетий, что хранятся в Одесском литературном музее. В итоге этот текст, вошедший в альманах, изданный тиражом 1000 экземпляров, оказывается важнейшим дополнением к малотиражной книжке. Вывод очевиден: когда-нибудь, при возможности, книга и статья просто обязаны сойтись под одной обложкой.

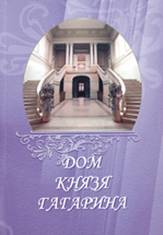

Но вернемся к «Дому князя Гагарина». Интересна статья А.И. Божко «Одесские сатирические и юмористические издания второй половины XIX – начала XX века». Понятно, что знаменитый одесский юмор появился не на пустом месте – сначала нужно было «потренироваться» на своих. Отмечая участие массы знаменитых и безвестных евреев в создании летучих журналов-однодневок или знаменитого одесского «Крокодила», автор добавляет: «Нужно сказать, что сатирическая пресса выходила в Одессе не только на русском языке, но и на языке идиш для еврейского населения. Итак, в 1905–1907 гг. в городе выходили следующие издания: газеты “Дер Хавер” (“Товарищ”), 1905 г., “Дер Такшитель” (“Паника”), 1906 г., “Дер Сод” (“Секрет”), 1906 г., “Дер Эмигрант” (“Эмигрант”), 1906 г., “Лековед Йонтев” (“В честь праздника”), 1906 г., “Лековед Шаббат Ун Йонтев” (“В честь субботы и праздника”), 1907 г.». Даже этот небольшой список производит сильное впечатление, демонстрируя изменение – на очень коротком временном отрезке – настроения еврейского населения по отношению к событиям первой русской революции. Забавно выглядит переход от «товарища» к «панике», затем – к революционным «секретам», а от них к «эмиграции» и неожиданному интересу к иудейским праздникам. Хотя не до конца понятно, почему в последнем случае идишская Суббота – «Шабес» – транслитерирована согласно сефардской ивритской традиции как знакомый всем сегодня «Шаббат». Впрочем, это легко может быть исправлено тогда, когда начнется систематическое описание идишского сегмента одесской сатирической печати. А взглянуть на него было бы весьма небезынтересно, памятуя о ситуации в Одессе времен революции 1905–1907 годов, описанной, например, в «Чужбине» В. Жаботинского.
Сейчас мы отвлечемся от описания «Дома князя Гагарина», чтобы вернуться к материалам сборника ниже и совсем в другом контексте. А пока обратимся к книге «Фазини»[3], составленной А.И. Ильф, А. Яворской, И. Кричевским. Тираж ее вновь невелик – 350 экземпляров.
Настоящее имя родного брата знаменитого Ильи Ильфа – художника-графика, живописца и фотографа Сандро Фазини, родившегося, в отличие от трех младших братьев, в Киеве, – было Сруль Арьев Файнзильберг. Как автор пары стихов и сатирической графики он упоминается и в статье Божко, о которой мы уже говорили. Сведения о Фазини находим и в альбоме «Одесские парижане. Произведения художников-модернистов из Коллекции Якова Перемена. Музей русского искусства им. Марии и Михаила Цетлиных. Рамат-Ган» (выпущен издательством «Мосты культуры» в 2006 году), составленном Лесей Войскун. И ее тексты, и работа Алены Яворской, впервые опубликованная в четвертом номере одесского альманаха «Мория», включены в книгу о Фазини. Однако основные материалы взяты из архива А.И. Ильф. Это довольно обширные письма самого Фазини и его жены в Москву Илье Ильфу или отцу художника в Одессу. Есть здесь и трагическое письмо Фазини американским родственникам, где художник умоляет помочь ему уехать из Советской России, так как остаться в ней означает смерть. Немало места в переписке занимает описание перипетий издания «Двенадцати стульев» во Франции, приездов Фазини в Россию и встреч с братом. Приведено и письмо художника вдове Ильфа после его смерти. Многие материалы получены от американских родственников семьи – родословная, семейные фотографии и т. д.
Сильное впечатление производит сочетание статей Александры Ильф и ее сына Ильи Кричевского, живущего в Израиле. Сама А. Ильф откровенно пишет: «В сущности, я ничего не знала о Фазини. Мои детские воспоминания: я рассматриваю старую одесскую фотографию семейства Файнзильбергов (не могу даже выговорить эту фамилию). Вот дедушка, вот бабушка, вот их сыновья, братья Ф. – мой отец и мои дяди». Это искреннее «не могу даже выговорить» и «Ф.» лучше, чем любые исследовательские выкладки, демонстрирует тот разрыв поколений, который произошел в семье, где два брата-художника и один писатель выбрали себе псевдонимы и лишь единственный брат сохранил до конца дней семейную фамилию. По-видимому, тогда переход что в русскую, что во французскую культуру (заставивший даже Шагала превратиться из Моисея в Марка) предусматривал подобный шаг со всей неизбежностью, даже если носители псевдонимов не забывали о своем происхождении. Со словами племянницы коррелирует и первая фраза письма Фазини в Америку из Константинополя, где тогда оказался убежавший из Совдепии художник: «Дорогой дядя Натан, вчера наконец я получил Ваше письмо от 30 марта. Я очень обрадовался ему и прослушал его (к сожалению, я не знаю еврейского языка) с большим вниманием…» – а сегодня уже американские родственники не говорят по-русски. И это тоже повороты еврейской истории ХХ века. Той самой истории, которая привела относительно благополучного французского художника и его жену к гибели в Освенциме. Теперь работы Фазини включены в трагический каталог-мартиролог «Еврейские художники в Париже 1905–1939», его картины попали в собрание произведений художников-жертв Холокоста Оскара Геза и хранятся в музее при Хайфском университете, выставляются на выставках в «Яд ва-Шем» в Иерусалиме. Обо всем этом рассказывает внучатый племянник Фазини Илья Кричевский.

Семья Файнзильберг. Одесса. 1906/1907 год.
Слева направо: сын Михаил, мать Миндель Ароновна, сын Александр (будущий Фазини), отец Арье Беньяминович, сын Илья (будущий Ильф), (в центре внизу) сын Вениамин.
Невеселый конец биографии брата веселого и грустного Ильфа позволяет нам вновь вернуться к четвертому выпуску «Дома князя Гагарина», важнейший материал которого – удивительный дневниковый текст об оккупированной Одессе, принадлежащий Адриану Оржеховскому (1876–1960). По-видимому, возраст и жизненный опыт, приобретенный задолго до октября 1917-го, позволили Оржеховскому, пережившему и голод 1930-х, и трагические дни оккупации, занять с уходом советской власти и приходом румынских войск позицию мудрого наблюдателя, необычайно уравновешенную по отношению ко всему происходящему. С одной стороны он с радостью достает иконы и идет в открывшуюся церковь, а с другой – презирает тех, кто при Советах уничтожал иконы, а теперь просит их у него. С одной стороны, он не умаляет роль евреев, в том числе одесситов, в событиях революционных лет, а с другой – евреи для него нормальные люди, имеющие такое же право на жизнь, как и все остальные, люди, над которыми нельзя издеваться, которых нельзя оставлять голодать и т. д. Оккупация Одессы румынами, при всех омерзительных подробностях, все же отличалась от немецкой, и некоторые евреи возвращались в свои дома. Оржеховский описывает отвратительные сцены ограбления еврейских квартир соседями и их конфликты со старыми хозяевами.
Читая брошенные собрания Толстого и Достоевского, Оржеховский пытается найти нравственную и интеллектуальную позицию, которая позволила бы осмыслить происходящее во всей сложности: «Вчера вышел первый номер газеты, я его не читал и не видел. Москва пала. Сегодня мне сказали, что Ростов и Севастополь взяты. Пропала великая, свободная Россия. Большевики угробили ее. Ленин начал, а Сталин добил. Будь они оба навеки прокляты. Но кто поддерживал этих мировых выродков, получил и получит по заслугам. Тысячу раз был прав Гитлер, когда в Берлине на площади совершили аутодафе нал Карлом Марксом и коммун<истической> литературой. Вот кто достоин всяческой благодарности за избавление нас из-под дьявольского ига коммунистов. Теперь настает возрождение нашей демократической жизни. Но сколько на мою долю ее придется – вот вопрос, и увидим ли мы наших детей».
Казалось бы, все ясно: перед нами человек, готовый приветствовать оккупантов, громить евреев и т. д. Ничего подобного! Буквально в том же абзаце Оржеховский рассказывает о женщине, которая вернулась из тюрьмы, где румыны держали согнанных евреев, домой за продуктами и обнаружила, что все разграблено соседями: «Наши мерзавцы, некоторые из соседей, украли из сарая К. все продукты! А ведь когда разбирали сараи под видом проверки, нет ли оружия, хотели забрать продукты, но я уговорил их оставить до прихода хозяев. Но соблазн был слишком велик, сердце и глаза не выдержали. Кстати, Бетя – наша коровница – сегодня пришла из тюрьмы, ее отпустили за продуктами, т. к. ее трое детей голодают. Она говорит, что все они задержаны как заложники и впоследствии, если все будет благополучно, их выпустят. Но о тех, кого погнали в Дальник, ничего не известно. Ходят разные чудовищные слухи, но они не проверены».
И далее, читая о Варфоломеевской ночи и вспоминая о временах Средневековья, Оржеховский встраивает видимое им в большой исторический контекст, что, с учетом обстоятельств создания дневника, само по себе поражает и восхищает. Пожалуй, микроскопический тираж сборника «Дом князя Гагарина» наиболее несправедлив именно по отношению к этой публикации.

А. Оржеховский с женой. 1950 год
Последний наш герой, поэт и переводчик Марк Тарловский, родился в 1902 году в Елисаветграде и с 10 лет жил в Одессе. Он пережил обе мировые войны, но как поэт оставался практически неизвестен вплоть до выхода – почти через 60 лет после его смерти (Тарловский умер в 1951 году) – однотомного, но весьма представительного собрания его поэтического наследия[4]. Думая об истории «русско-одесской литературы», нельзя пройти мимо этой привычно малотиражной (500 экз.), но почти 700-страничной книги, где, среди прочего, помещена огромная мемуарная поэма 1935 года о Багрицком и одесской литературной среде (среди ее персонажей, кроме Багрицкого, – Л. Славин, И. Ильф и др.).
Начнем, однако, с биографии, изложенной в послесловии Е. Витковским и В. Резвым: «Марк Ариевич-Вольфович Тарловский (по еврейской традиции были, видимо, у него и другие имена) родился… в Елисаветграде… Двоюродный брат Тарловского – еще один уроженец Елисаветграда Абрам Маркович Гольденберг (1897–1968), известный под псевдонимом “Арго” (позднее “А. Арго”), соавтор Николая Адуева». А учился Тарловский в Одессе в той же гимназии Н.Ф. Черткова, где и Остап Бендер, роман о котором окажется упомянут в мемуарной поэме. Имя Арго нам еще встретится, пока же стоит упомянуть, коль скоро речь идет о еврейском круге, что Адуев тоже не «Иванов».
Авторы статьи приводят замечательный список ранних несохранившихся текстов Тарловского, который начал писать в восьмилетнем (еще более юном, чем даже Кирсанов) возрасте: «От первых пяти лет творчества остались одни названия – их Тарловский сохранил в списке литературных работ, составленном в 1945-м, неведомо для каких надобностей: “1910 – басни; 1911 – „Погром“ (пьеса); „Иван Сусанин“, „Под сенью Б-га“ (отрывок поэмы), „Моисей“ (отрывок поэмы), „Евреи“; 1914 – „Погром“ (поэма), „Еврейский пожар“, „Вильгельм II“, „Слава Бельгии“ (не подражание ли Верхарну? – Л. К.), „Позор Германии“”. Тематика более чем ясна, а в остальном, надо полагать, была это обычная ювенилия». Разумеется, это так, но как тут не вспомнить данную Голубовским характеристику начального этапа творческого пути Кирсанова! Только названия и даты «еврейских» стихов Тарловского связаны с началом первой мировой войны, с погромами в прифронтовой полосе, обвинениями евреев в шпионаже в пользу Германии, а также, по-видимому, с мессианскими настроениями автора.
Если поместить поэта в ряд Маршак – Тарловский – Кирсанов, то выстроится нечто вроде «хронологической типологии» вхождения в русскую литературу мальчиков из еврейско-русской среды в первые полтора десятилетия ХХ века. В целях дальнейшей «типизации» выходцев из еврейства, рвавшихся в русскую словесность, уместно вспомнить, что и Багрицкий, и Мандельштам, и другие писали стихи относительно еврейского содержания одновременно с прославлением русского оружия, Суворова, русских богатырей и т. п.
В составивших «водолеевский» том стихотворениях Тарловского «еврейского» не слишком много. Зато поэма «Веселый странник», написанная во многом на «южно-русском» (локальном, как говорили тогда конструктивисты, чьим «официальным» пародистом был Арго) языке, полна соответствующих реалий. Здесь даже морские волны оказываются еврейскими: «Прощайте, портофранковские рейсы! / Гулял лишь ветер, вольный, как Махно, / И резал волны, пышные, как пейсы», а зашедший в парикмахерскую «Венский шик» герой так оценивает лукавого парикмахера: «…юноша подумал: “брей, старик, / – Ты Вечный Жид, но я тебя не выдам…”»
Разумеется, не оставлена без внимания и двойная русско-еврейская поэтическая родословная Багрицкого: «И может быть, переплелись вконец / Там нити небывалой родословной, / Где ходит в пейсаховичах отец, / А мать зовут, наоборот, Петровной. / Дед по мамаше – русский феодал, / Дед по папаше – хедерский меламед / И внука рвут на части, и – скандал, / И неизвестно, кто переупрямит». И даже Пушкин в исполнении Веселого странника звучит так: «Я вам клянусь пайком и непайком / Я вам клянусь мечом и старой бритвой, / Клянуся вам украинским шпигом / Клянуся вам еврейскою молитвой / Я первым днем волнений вам клянусь, / Я вам клянусь последним днем блокады, / Что если там не окорок, то гусь, / Ощипанный, сырой и белозадый!»
Цитировать можно долго, но не обойти традиционной для «юго-руссов» стихотворной имитации «одесского языка». На сей раз речь идет о разносчиках газет, которых когда-то в Одессе называли «Ицок»: «Ты сгинул Ицок, чьей рукой рассеян, / Распродан в розницу газетный вздор… / Ты задыхаясь и боясь просрочки, / В сердцах посасывающим кефир / Метал строкой: “Отец – насильник дочки!” / И томагавком – “Немцы хочут мир!” / Теперь ты миф. Уже не слышно, Ицок, / твоих провозвестительных фанфар, / Инсценировкой в трех небритых лицах, / Мошенством – уй – стал, Ицок твой товар».
Но кроме этих довольно очевидных вещей есть в поэме и литературная полемика, которую вряд ли уловит ухо «массового» читателя этих самых 500 экземпляров. А знать ее небезынтересно. Вот, например, в 3-й главке, говоря о мучающей Багрицкого астме, Тарловский пишет неожиданно резко: «Крепка / Бульдожья хватка астмы bronchialis / Теперь сиди, читай стихи Адалис, / От кашля скалясь, морщась для плевка». Если бы не строки из 4-й главы, можно было бы подумать, что здесь какая-то личная ненависть к Аделине Адалис. Однако чуть ниже читаем о голосе Багрицкого, звучащем по радио или на вечерах памяти поэта: «Вот звуковая, говорят мне, пленка, / Подделан тембр Андронниковски-тонко… – / Я рву билет, где напечатан зов / На вечер отзвучавших голосов». Здесь имеется в виду книга Адалис «Власть», вышедшая в 1935 году. На нее, кстати, совершенно иначе откликнулся в воронежской ссылке Осип Мандельштам, хвалебно процитировавший как раз те строки Адалис, которые так возмутили Тарловского: «Нам голос умершего друга / В глубокую полночь звучал… / По радио передавалась / Былая повадка сполна. / Едва выносимая жалость / Шатала меня как волна… / Сердитый, смешной и знакомый, / Он громко дышал и хрипел, / Он громко о жизни зеленой, / О воинской свежести пел…» Так полемически начинают звучать стихи Тарловского при выявлении скрытых подтекстов.

Поэтическая судьба самого Тарловского была далека от благостности. Всю жизнь он – переводчик, не имеющий возможности печатать собственные стихи, – переводил (и сочинял разного рода квазипереводные) «национальные» «оды» Сталину. Ему пришлось дожить до времени борьбы с космополитизмом, каковой кампании посвящена сатирическая поэмка о том, как некие безродные космополиты пытаются отнять у русского народа его основное достояние – русский мат. Ничего подобного нам читать еще не приходилось.
Очевиден полемический подтекст в не до конца понятном стихотворении, написанном 1 апреля 1947 года к 50-летию Арго и отражающем чудовищную литературную жизнь того времени: «Мой дорогой! Когда столь дружным хором / Тебя приветствовал сановный зал, / Я мыкался по смежным коридорам / И ничего, как помнишь, не сказал. / Но спич и свой за пазухой имея, / Предельно тем я был, в немотстве, горд, / Что глас гиганта с голоском пигмея, / Твой подвиг чтя, в один слились аккорд; / Тем, что легла с кристаллами корунда / На твой алтарь замазка для окон, / Что приложил к червонцу Сигизмунда / Свой медный грош и Бобка-рифмогон…» и чуть ниже: «Ну ладно, друг! на росстанях житейских, / Пред русской речью расшибая лбы, / И пафоса, и скепсиса библейских / С тобой мы оба верные рабы. / В чем грешен я, я сам отлично знаю, / А невпопад меня уж не кори. / Не думай друг, что слезы я роняю: / Поэзия пускает пузыри…»
Упомянутый здесь Сигизмунд – это прозаик С. Кржижановский, как и Тарловский, практически не печатавшийся при жизни. А вот «Бобка-рифмогон», как указывают комментаторы, – Борис Пастернак. Если вспомнить, что Кржижановский был консультантом шекспировских переводов Пастернака[5], а в 1947 году Пастернак как раз боролся за переиздание своего Шекспира и, не добившись этого, начал переводить «Фауста» вкупе с Шандором Петефи (за которого требовал у Симонова повышенный гонорар), то можно понять состояние Тарловского перед юбилеем Арго – то есть в то самое время, когда Фадеев и Сурков резко критиковали лирику Пастернака, а тот компенсировал потерю возможности печатать оригинальные стихи все новыми и новыми переводами…
Вот такими предстали перед нами судьбы бывших «веселых странников» – одесситов. И, кажется, нет надежды на то, что следующие встречи с другими героями литературной истории «юго-запада» окажутся веселее.
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
[1] Кирсанов до Кирсанова. Одесса: Зодиак,
2007.
[2] Дом князя Гагарина. Вып. 4. Одесса:
Моряк, 2007.
[3] Фазини: 1893–1944. М.: Репроцентр,
2008.
[4] Тарловский М. Молчаливый полет. Стихотворения.
Поэма. М.: Водолей, 2009.
[5] За это указание мы благодарны исследователю
«шекспиризма» Кржижановского И.Б. Делекторской.