[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ АВГУСТ 2005 ТАМУЗ 5765 – 8 (160)
Хранитель могилы
Яков Шехтер
Неизбежность есть не что иное, как пересечение случайностей. Побежал человек случайно через дорогу, а из-за угла, не менее случайно, вывернул автобус. И возникает, не про нас будет сказано, неизбежность.
Мы лавируем между случайностями, точно между каплями дождя, вернее, они барабанят по нашей шкуре, словно те же капли. Никогда нельзя знать, где можешь оказаться, наклонившись за укатившейся монеткой.
Несколько десятков лет назад вильнюсский горсовет постановил разрушить старое еврейское кладбище. Особо злого умысла за этим решением не стояло: кладбище давно оказалось в черте разросшегося города, и на его месте должен был расположиться новый жилой район.
К могилам советская власть относилась пренебрежительно, точнее сказать, утилитарно: при первой необходимости пускали под нож экскаватора. В государстве, где главным символом служил мавзолей с так и не удостоившимся погребения покойником, такое отношение к мертвым удивляло.
По существовавшим правилам, родственники имели право перенести захоронения на новое кладбище. Таких случаев оказалось немного: коренные виленские евреи сгинули в фашистских концлагерях, и заботиться о мертвых было уже некому. Община перенесла только братскую могилу жертв погрома 1919 года и склеп с останками виленского Гаона.
Кладбище снесли, а из гранитных надгробий, после небольшой обработки, сложили роскошную лестницу. Лестница вела на холм посреди города, где возвышался Дворец профсоюзов. Во дворце выступала еврейская самодеятельность, и посетители концертов каждым шагом попирали прошлое литовского Иерусалима. Специально так было задумано или случайно получилось – неизвестно. А сегодня не так уж и важно.
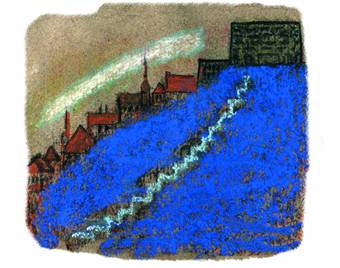
Плиты обтесали халтурно, и на ступеньках проступали закорючки еврейских букв. Реб Берл, староста виленской синагоги, никогда не ходил по этой лестнице, предпочитая добираться троллейбусом на вершину холма и оттуда пешком через парк. Реб Берл возил на занятия в хоре еврейской самодеятельности внука, Витаутаса Марцинкявичюса.
Дочь реб Берла вышла замуж за одноклассника-литовца. Кроме национальности, в зяте реб Берла устраивало всё. На следующий день после свадьбы Юозас Марцинкявичюс объявил жене:
– Дома мы будем разговаривать или на идише, или по-литовски. Но не по-русски. Выбирай.
Особенно выбирать было не из чего: познания Юозаса в еврейском ограничивались несколькими ругательствами и проклятиями, в то время как молодая Марцинкявичене прекрасно владела его родным языком. Собственно говоря, между собой они всегда изъяснялись исключительно по-литовски, а посему, кроме позы, за словами Юозаса ничего не стояло. Но поза, согласитесь, была красивой.
Жили молодые хорошо, даже очень хорошо. Зять с большим уважением относился к религиозным странностям тестя и на Пейсах даже соглашался убирать из дому всё квасное, дабы реб Берл мог приходить к ним в гости.
– Вкусная маца получилась, – регулярно шутил он на седере у тестя. – Но до настоящей ей далеко! – и понимающе поднимал брови.
– Что значит – до «настоящей»? – как правило, откликался кто-нибудь из новых гостей.
– Настоящая, она с кровью! – продолжал шутить Юозас.
Однако, при всей своей либеральности и незаурядном чувстве юмора, делать сыну обрезание Юозас отказался наотрез:
– Где это вы видели Витаутаса Марцинкявичюса с обрезанным концом?
Сына он назвал в честь литовского князя, успешно громившего сотни лет назад русские дружины. Единственное, что смог вырвать у зятя реб Берл, – это участие внука в еврейской самодеятельности. К искусству Юозас относился положительно, Витаутас Марцинкявичюс, распевающий «дринкен абисалэ вайн», его почему-то не смущал.
От реб Берла я узнал подробности перевозки праха Гаона. Когда стали доставать из ямы гроб, прогнившая крышка треснула. Гаон лежал в истлевшем саване, но сам совершенно целый, словно похороны состоялись не двести лет назад, а вчера утром.
Крышку заколотили, и гроб погрузили в автобус. По дороге кому-то пришла в голову мысль проехать через центр города, мимо того места, где когда-то стояли синагога Гаона и его ешива. На старых улицах Вильнюса осталась булыжная мостовая, и автобус сильно трясло. Уже потом вспомнили, будто один из основателей хасидизма, Магид из Межерича, или Алтер Ребе, пригрозил Гаону:
– Твои кости будут греметь по виленским мостовым!
Обещание исполнилось – покой праведника оказался потревоженным, и все, кто принимал участие в перевозке, умерли в течение короткого времени. Мне не удалось отыскать ни одного свидетеля.
На новом кладбище Гаона положили, так же как и на старом, рядом с его зятьями и Гер-цедеком, графом Потоцким, перешедшим в еврейство и сожженным по приговору католического трибунала во второй день праздника Швуэс. Вернее, если соблюдать хронологию, то первым на старом кладбище похоронили Гер-цедека, а уже после этого Гаон попросил, чтобы его положили возле праведника. При переносе могил порядок слегка перепутали; первым справа захоронили Гаона, а за ним – бывшего графа Потоцкого.
Не знаю, насколько достоверно предание, рассказанное мне реб Берлом, но, по его словам, в Вильне оно передавалось из уст в уста две сотни лет.
В ночь перед казнью Гаон пришел к Гер-цедеку в тюрьму. Охраняли заключенного остервенело, и проникнуть через тройную цепь часовых было невозможно. Поступок молодого графа разъярил шляхту, и она мстила ему так же страстно, как еще совсем недавно лебезила перед ним, наследником знатнейшего рода и самого крупного состояния Польши.
– Пойдем, – Гаон протянул руку и кандалы, словно бумажные игрушки, упали с ног Гер-цедека. – Я выведу тебя отсюда.
– Скажите мне только одно, – попросил Гер-цедек, – это решение Неба?
– Решение, – ответил Гаон, – но в моих силах его изменить.
– Не нужно ничего менять, – Гер-цедек отодвинулся в глубину камеры. – Я не хочу пользоваться сверхъестественными силами для своего освобождения.
Гаон не ответил. Несколько минут в камере царила тишина.
– Хорошо, – произнес наконец Гаон. – Но знай: написано в наших книгах, что погибающие за веру не чувствуют боли.
Поленницу, на которую палачи поставили Гер-цедека, предварительно облили водой. Мокрые дрова горят медленно, и осужденный умирает не от пламени, а от жара, долгой и мучительной смертью.
Влажное дерево дымило, и клубы дыма закрыли Гер-цедека от взоров любопытной толпы. Обычно треск разгорающихся дров перекрывался криками жертвы, но на этот раз их не было слышно. Площадь притихла, а когда порыв ветра отнес дым в сторону, взглядам палачей и ксендзов открылось удивительное зрелище: человек, стоявший на костре, улыбался...
Место на еврейском кладбище для останков Гер-цедека определил сам Гаон. Чем он руководствовался при выборе – никто не знает, но говорят, будто он долго ходил по кладбищу, словно вымеряя, высчитывая лишь ему известные координаты.
После переноса над могилами соорудили склеп, небольшой домик из бетона с тремя окнами и башенкой. Автобус, в котором я возвращался с работы, проходил недалеко от кладбища, и я завел себе привычку два раза в неделю выходить на ближайшей остановке и молиться на могиле Гаона.

Поначалу я долго стоял у запертой двери, вглядываясь в сумрак внутри склепа. Дверь сделали недавно, пару десятков лет назад, но выглядела она очень древней. Железо прогнило, нижний лист был помят, точно по нему часто-часто стучали маленькими молоточками, концы шестиконечной звезды разлохматились, краска, намазанная прямо по ржавчине, отставала целыми пластами. При небольшом усилии рисунок, созданный на двери ветром, морозом и сыростью, можно было представить, как географическую карту. Я рассматривал ее, воображая неведомую страну, ее города, реки, озера. Наверное, это всплывало во мне непрожитое до конца детство.
Религиозные люди часто обладают большим воображением. Постоянные упражнения духа, попытки разговора с невидимым, но вездесущим Творцом развивают фантазию, а у тех, кому посчастливилось родиться в соблюдающей традиции семье, навсегда остается в сердце кусочек детства, с его наивной верой в чудеса, высшую справедливость, непременное возмездие и обязательную победу добра над злом.
Склеп выглядел так, будто простоял добрую сотню лет. По незнанию, я отнес состояние двери и раскрошившийся бетон на счет халтурной работы строителей. Много позже, изучая Талмуд в Бней-Браке, я обнаружил объяснение быстрого разрушения могилы.
Силы нечистоты обступают человека, точно канавка для полива окружает дерево. Ужасная, страшная нечисть вьется прямо у наших ног, и в том, что мы не видим эти создания, заключена большая милость Творца. Они кошмарны; тот, кому доведется хоть раз взглянуть на их истинное обличье, сходит с ума.
Особенно тянутся они к праведникам, летят на огонек святости, будто комары на огонек лампы. Одежда мудрецов изнашивается быстрее, чем у обычного человека, из-за мелких бесов, трущихся о штанины, цепляющихся к лацканам пиджаков. На могилу Гаона нечисть, видимо, летела тучами, словно саранча во время египетских казней.
Помечтав минут пятнадцать, я приступал к молитве. Поскольку день клонился к вечеру, я читал «Минху», послеполуденную молитву, и возвращался на остановку автобуса. Странное дело, на кладбище я приходил совершенно здоровый, а уходил с насморком.
– Виновата сырость, – думал я, – просто нужно одеваться потеплее.
Но свитер и даже куртка не помогали. Насморк приходил и уходил, будто по расписанию, начинаясь сразу после молитвы и отпуская только на следующий день утром, после накладывания тфилин. Даже такому непонятливому экспериментатору, как я, стало понятно, что дело не в одежде и не в сырости. Реб Берл, услышав мою историю, схватился за голову:
– Ты с ума сошел, кто же читает «Минху» на кладбище!
– А почему нет? – удивился я.
– Ты будто бы задираешь мертвых: вот, я могу, а вы уже не можете. Поэтому и молитвенники не вносят на кладбище, и цицис прячут. Подумай, кого ты дразнил! Еще легко отделался, только насморком.
Мои рассуждения о сырости, промозглой погоде и низком качестве шерстяных изделий реб Берл отбросил сходу.
– Знаешь что, – сказал он, роясь в карманах, – вот тебе ключ от двери в склеп. Открывается с трудом, но открыть можно. Внутри читай только «Псалмы». Через недельку расскажешь о результатах, экспериментатор...
К первому посещению склепа я готовился, словно к первому свиданию с любимой девушкой. Купил пачку свечей, вечером накануне долго и тщательно мылся в душе, надел чистое белье. Однако дело чуть не завершилось крахом. Замок не открывался и, сколько я ни давил на ключ, заветный щелчок не раздавался. Спустя полчаса, ссадив пальцы до крови, я опустил руки.
«Неужели это так и закончится, бесславно и постыдно? Ехать за слесарем, просить помощи. И ведь чего я прошу, в конце-то концов, о чем молю, чего добиваюсь?! Попасть на могилу праведника, псалмы почитать! Неужели Ты меня не пустишь?!»
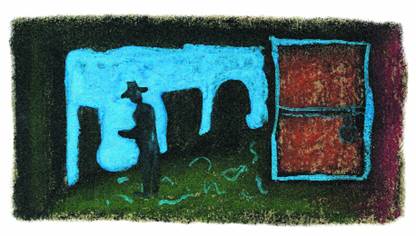
Я ухватился пальцами левой руки за головку ключа и в сердцах крутанул. Никакого результата! Я принялся крутить еще и еще, и вдруг замок, словно нехотя, щелкнул. Еще не веря, я потянул за ручку, дверь заскрежетала и начала отворяться. Видно, ее давненько не сдвигали с места, пыль на полу склепа сбилась в кучу и образовала валик, очертаниями повторяющий неровный край двери. Я разбросал валик носком ботинка, распахнул дверь и вошел.
Внутри царили тишина, полумрак и сырость. Из бетонного пола выступали шесть надгробий. Над одним из них, первым справа, в стену была вмурована каменная доска. Среди множества выбитых на ней слов выделялось одно, подойдя поближе, я прочитал: «Элиёу». В метре от меня покоилось тело величайшего еврейского мудреца последних трех столетий – виленского Гаона.
Начинающие духовное путешествие всегда склоны к театральности, ищут чудеса и отзываются на внешние эффекты. По мере продвижения, акцент постепенно перемещается с внешнего на скрытое, и подлинные переживания, а с ними и наслаждения, уходят во внутренний мир.
Я расставил свечи по могилам, зажег их, притворил дверь и прикрыл глаза. Сквозь неплотно сомкнутые веки едва заметно трепетало пламя свечи на могиле Гаона, внезапно пошедший дождь шуршал по крыше. Я ждал, не знаю чего, наверное, чуда, знака, ниточки, сигнала, что меня слышат, что я здесь не один, что трепещущая, но не рвущаяся связь по-прежнему крепка, сколько ни пробуй ее на прочность. Но ничего не произошло, просто ничего.
Свечи почти догорели, когда я вспомнил про «Псалмы». Достав из нагрудного кармана небольшую книжечку, я раскрыл ее наугад, рассчитывая на некую подсказку – в номере страницы, первом слове или фразе. Опять ничего. Тогда я принялся читать, почти не понимая смысла старинных слов, просто произнося звуки и пытаясь делать это наиболее точно. Пять, десять, пятнадцать минут. Свечи начали трещать, и буквы в книжке, и без того еле различимые, стали расплываться.
И вдруг, да, вот тут наконец произошло так долго ожидаемое «вдруг», но произошло вовсе не так, как его ждали, а по-своему, по единственно правильному своему, совсем не похожему на наши ожидания. Мои руки вдруг опустились, а губы сами собой, вернее, почти сами собой забормотали, зашептали просьбы. Словно упала пелена с сердца, пропала стеснительность, исчезли робость и отчужденность недоверия. Я просил и молил о главном, о болезненном и невозможном главном, и слова текли, не отпуская друг друга, изумрудной нитью настоящей молитвы.
Сколько она длилась – не знаю, но, наверное, недолго. Когда я очнулся, фитили свечей корежились в последних судорогах. В душе моей царили тишина и покой, я знал: всё будет хорошо, просто не может, не должно быть по-другому.
Честно говоря, причин для такого оптимизма было маловато. К тому времени семейные обстоятельства моей жизни затянулись в тугой узел, настолько тесно прилегающий к горлу, что избавиться от него можно было только самыми радикальными средствами. Но резать, рубить по живому, по еще живому, не хватало ни сердца, ни решимости. Раскачиваясь и плача, я просил на могиле Гаона о чуде, о бесконфликтном разрешении моих проблем. Просил, чтобы для меня лично дважды два стало не четыре, и даже не пять, а восемнадцать.
Много позже в одной из старых книг я наткнулся на проклятие, обозначенное как наиболее страшное из всех существующих. Поначалу оно вовсе не показалось мне страшным, но, примерив его на собственную судьбу, я понял, сколь глубокая правда заключается в этих шести словах.
«Пусть исполнится всё, о чем ты просишь», – гласило проклятие.
Теперь, спустя жизнь, я с ужасом представляю, что стало бы с моей судьбой, если бы тогдашние просьбы на могиле Гаона были услышаны.
Закрыть дверь мне не удалось, я просто притворил ее покрепче и тихо удалился, боясь неосторожным движением расплескать покой, воцарившийся в душе. На следующий день, взяв взаймы у механиков завода, на котором я работал, масленку с длинным и тонким горлышком, я буквально залил замок самым лучшим машинным маслом. Капельки масла выкатились наружу и заструились по ржавому железу.
Дверь закрылась, но ее общий вид действовал на меня удручающе. Ничто в ней не походило на благородное старение, приличествующее могиле праведника, а напоминало обычные для советского строя запустение и бесхозность. И я решил действовать.
Тогда, в самом начале перестройки, пошли разговоры о размещении на заводах частных заказов. Будто обычный гражданин может заказать на танковом заводе ограду для садового участка или, заплатив наличными, изготовить на другом засекреченном предприятии не оптический прицел снайперской винтовки, а телескоп для любительского наблюдения за звездами.
Недолго думая, я отправился с частным заказом к заму гендиректора по кадрам. Зам гендиректора, сравнительно молодой литовец со странной для кадровика фамилией Панка, славился своей неусыпной бдительностью. Товарищ Панка мог часами подкарауливать на морозе негодяя, решившегося пропихнуть сквозь щель в заборе стальной лом.
Половина старого Вильнюса отапливалась печами. Если зимним утром забраться на башню Гедиминаса, то вид открывался пасторальный: из черных труб на красных черепичных крышах, украшенных белыми шапками снега, поднимались серые столбики. Улицы Старого города пропахли угольным дымом, его острый аромат я помню до сих пор. Переплетаясь с колокольным звоном тридцати вильнюсских костелов и монастырей, он создавал питательную среду для всякой нечисти, в изобилии гнездившейся под крышами старых домов. К концу зимы снег на крышах, заборах и подоконниках покрывался черной пудрой, и прикосновение к нему грозило основательно испачкать пальто.

Уголь хранили в деревянных сарайчиках, крытых латаным толем. Под беспрестанным давлением вильнюсской непогоды крыши там и сям протекали, и полторы тонны угля, запасаемые на зиму, превращались в сверкающий черный монолит, поддающийся только лому. После одной зимы лом тупился, а то и гнулся и требовал заточки или замены, потому сей нехитрый инструмент был в большом ходу среди обывателей столицы Советской Литвы. Покупать его в магазине считалось зазорным: заводов в Вильнюсе хватало, и каждый хозяин, в преддверии угольных заготовок, исхитрялся, как мог.
Гораздо проще было бы заделать щель в заборе, но куда тогда направить охотничий азарт и благостное чувство справедливой расправы? Звездный час товарища Панки пришелся на недолгое правление Андропова. Принимая участие в рейдах по дневным сеансам кинотеатров, он умудрился изловить на одном из них начальника отдела сбыта вместе с любовницей, секретаршей главного инженера. Прелюбодеев уволили, правда, не за супружескую измену, а за нарушение трудовой дисциплины, и Панка несколько недель ходил, словно накачанный горячим воздухом. Окружающие опасались, что зам генерального в любую секунду оторвется от земли и торжественно отплывет в серое литовское небо.
– Вот, – сказал я, протягивая товарищу замдиректора написанное от руки заявление, – прошу завизировать.
– Это, что это? – не сразу сообразил Панка, разглядывая прошение.
– Дедушка у меня на кладбище лежит, – начал я, стараясь придать своему голосу самый обыденный тон, будто речь шла о простейших, сто раз деланных делах. – Ограда проржавела, дверь сгнила, надо чинить. Прошу оформить наряд на ремонт согласно прейскуранту.
Панка наморщил лоб. Обычно «левые» работы производились на заводе вечером: за бутылку водки охранники отворачивались, давая возможность нарушителям сначала заволочь на подотчетную территорию подлежащий ремонту предмет, а затем, спустя несколько часов или дней, – выволочь. Я был первым, кто обратился с такого рода просьбой в официальном порядке, и Панка плохо представлял, что со мной делать.
– Ты это, – сказал он после нескольких минут напряженного размышления, – ты обожди немного. Я проверю, как это оформлять, и сообщу.
– Так я зайду завтра?
– Нет, лучше послезавтра. А еще лучше, через неделю.
– Спасибо.
– Чего уж там.
Через неделю товарищ зам генерального долго морщил лоб, будто бы вспоминая, чего я от него хочу. Не было ни тени сомнения: он прекрасно помнит, о чем идет речь. Тягостное молчание повисло в комнате, но помогать Панке я не собирался.
– Ты это, вот что, – наконец молвил он, прервав затянувшуюся паузу. – Зайди еще через неделю.
Я зашел через неделю, и через две, и через три. На пятый или шестой визит Панка сломался.
– Знаешь что, – сказал он, стыдливо отводя глаза в сторону, – я дам указание начальнику охраны, он тебя пропустит. Сколько там стоит этот ремонт…
– Я заплачу. Сколько будет стоить, столько и заплачу.
– Да никто не знает, сколько это будет стоить, – рявкнул Панка. – В этом-то и проблема! Нету ни нормативов, ни прейскурантов. Что я, из-за твоего дедушки начну новый стандарт предприятия разрабатывать? Знаешь, сколько времени я на твою ограду потратил! Мой труд тоже не бесплатный.
– Спасибо, спасибо! – я быстренько пошел к выходу. – Так вы известите начальника охраны?
– Прямо сейчас, – Панка поднял трубку. – Вези свою дверь.
Снять и погрузить дверь в «пикапчик» труда не составило, настоящая проблема заключалась в другом. В те годы слово «еврей» и особенно символ еврейства – шестиконечная звезда – воспринимались будто нечто зазорное, вроде слова «сука». Само по себе выражение вполне пристойное и в литературе встречается, но вслух произносить неудобно. Дверь украшала огромная шестиконечная звезда, нести ее с таким украшением через весь завод означало не только привлечь к себе всеобщее внимание, но и вызвать многочисленные пересуды и толки. Поэтому я раздобыл рулон мешковины и старательно укутал дверь, наподобие того, как бойцы спецназа пеленают бинтами свои автоматы.
Панка не подвел, и на проходной меня пропустили без единого звука. Я втащил дверь на ремонтный участок и приступил к раздаче магарыча. Расчет был чрезвычайно прост: пара рабочих рук – одна бутылка водки, две пары – две бутылки.
– Чья могилка-то? – поинтересовались слесаря, узрев могендовид во всем размахе его треугольников.
– Дедушки, – ответил я, незаметно для себя самого оказываясь в одной компании с Остапом Бендером. Единственное, что оправдывало мое незаконное присоединение к семье виленского Гаона, была благая цель этой маленькой лжи: объяснять работягам, чью могилу я собираюсь ремонтировать, не имело никакого смысла.
Дверь не просто починили, а отреставрировали, заменив сгнившее железо нержавейкой. Старую краску сбили на пескоструйке и положили новую, предварительно как следует загрунтовав. Замок я купил самый лучший, и слесаря скроили для него аккуратную коробочку из жести, защиту от влаги и сырости. Коробочку покрасили черной краской, и она стала напоминать футляр для тфилин. Поместив замок внутрь, его набили специальным солидолом, густой смазкой, защищающей механизм от любого вида коррозии. Думаю, замок работает до сих пор, поскольку солидол предназначался для защиты электромоторов, двигающих щетки стеклоочистителей на рубках военных кораблей, и сносу ему просто не было.
Я очень торопил слесарей – ведь склеп оставался открытым, и мало ли какая холера могла забрести в него по своей нечистой нужде. Но всё обошлось, через день дверь была готова, я опять укутал ее мешковиной и беспрепятственно вынес с завода. Петли, вмурованные в бетон склепа, я обильно смазал тем же солидолом, навесил дверь и, вставив ключ, повернул его по часовой стрелке. Замок, мягко щелкнув, закрылся. Легким поворотом пальцев я вернул ключ в прежнее положение, и снова закрыл; теперь управиться с замком смог бы и трехлетний ребенок.
Новые ключи я отдал реб Берлу, два он оставил у себя, а третий вернул мне.
– Раз ты уже взялся за такое дело, – сказал он, протягивая ключ, – побудь немного хранителем могилы. – Не всё старикам на себе тащить, пора и молодежи плечо подставить.
– А в чем заключаются обязанности? – поинтересовался я, принимая ключ.
– Чтоб так особенно, то ни в чем. Держи порядок, наведывайся почаще и, если кто попросит, води смотреть. Но будь осторожен, близость к праведнику – непростое дело.
– А чего остерегаться?
– Да конкретно ничего, будь хорошим евреем и не обижай людей.
Несколько недель меня не покидало приподнятое настроение, похожее на тот, первый, восторг, а потом заботы и тяготы взяли свое. Сказать по правде, я ожидал если не полного и немедленного исполнения всех просьб, то хотя бы начала, первой весточки. Но она не появлялась – тьма мне не давала знака.
Реб Берл начал посылать ко мне тех, кто хотел посетить могилу Гаона. Их было немного, этих гостей, и все они оказались со странностями, каждый со своей.
В одну из суббот в синагоге появился хабадник из Ленинграда, Авигдор. Он остановился у своей дальней родственницы и вечером пришел на миньян. Мы разговорились, Авигдор выглядел обычным, не внушающим никаких подозрений человеком.
Странное началось на следующий день, после утренней молитвы. Синагога была полна книг, их присылали со всей Литвы из разрушенных и разграбленных молитвенных домов. По словам стариков, приходили посылки даже из украинских и белорусских городов, в которых не осталось ни синагог, ни евреев. Книг собралось великое множество, целая библиотека, и мы с приятелем потихоньку разгребали это богатство, сортируя, очищая от пыли и расставляя по полкам на втором этаже, в женской половине. Женщины – старушки – появлялись там один раз в году, на Йом Кипур, и «женской» половина называлась исключительно по старой памяти. Хотя, в общем-то, вся синагога держалась именно на той самой старой памяти, поскольку новых событий в ее жизни уже не происходило.
Разыскав среди завалов особенно хорошо сохранившиеся книги, мы переносили их вниз, в главный зал. Постепенно там также собралась очень прилично выглядевшая библиотечка. Огромные тома Талмуда в толстых кожаных переплетах с золотым тиснением, сборники алохических постановлений, книги наиболее известных комментаторов. Конечно же, на почетном месте красовались четыре тома «Шулхан Оруха» из частного собрания купца Лейба Виткина. Так, по крайней мере, было вытиснено на корешках. Авигдор снял с полки одну из них и буквально впился в нее глазами, казалось совсем позабыв о молитве.

После окончания службы он подбежал к реб Берлу с выражением чрезвычайного беспокойства на лице, покрытом клочковатой бородой.
– Вы староста синагоги?
– Да, – ответил реб Берл.
– А раввин тут есть?
Более идиотский вопрос трудно было задать. На весь Советский Союз власти разрешили только одного раввина, в Москве, и ходить к нему советоваться означало то же самое, что ходить советоваться прямо к куратору еврейского отдела КГБ. Не знать таких элементарных вещей Авигдор не мог, следовательно, в его голове варилась очень странная каша. Но это еще было ничем по сравнению со следующим вопросом.
– Нет, последнего виленского раввина расстреляли в сорок первом году. У вас есть еще вопросы?
– Да, да, – зачастил Авигдор. – Я остановился у родственницы, пожилой женщины, лет шестидесяти, если не больше, да?
– Что «да»? – не понял реб Берл.
Но Авигдор продолжал – «да», как выяснилось, он добавлял почти после каждого предложения, вместо точки или для связки мыслей.
– Так вот, комната у нее одна, я спал на диванчике за шкафом. А сейчас прочитал в «Шулхан Орухе», будто если мужчина провел ночь в одной комнате наедине с женщиной, он должен на ней жениться, да?
– Что «да»? – опять переспросил реб Берл.
– Так я обязан жениться или нет?
Реб Берл тяжело вздохнул.
– Послушайте, молодой человек, – сказал он, начиная складывать талис. – Написано в Торе, что нужно есть кошерную пищу. Написано, можно открыть и убедиться. А еще написано в Торе, что нужно накладывать тфилин. Тоже написано. Но покажите мне, где написано в Торе, что нужно быть идиотом?
– Так, значит, я не обязан жениться, да? – с облегчением вздохнул Авигдор.
– Ну почему, если вам так сильно хочется, можете попробовать. Она ваша дальняя родственница или ближняя?
Глаза у реб Берла заискрились. Авигдор наконец понял всю нелепость своего вопроса и тоже заулыбался.
На следующий день, в воскресенье, я повез его на кладбище. Молился Авигдор неистово и бесконечно: я успел прочитать все свои постоянные псалмы, попросить просьбы, просто подумать, разглядывая серую стенку склепа, погулять по кладбищу, еще раз постоять возле Авигдора, а он всё раскачивался и раскачивался, ничего не замечая вокруг себя. В конце концов мне это надоело, и я начал интеллигентно покашливать. Никакой реакции. Закашлял сильнее. То же самое. Наконец я решительно прикоснулся к плечу Авигдора.
– Мне пора, я должен запереть склеп.
– А, да-да, хорошо. Хорошо.
Мы вышли наружу. Лицо Авигдора сияло.
– Знаешь, какая роскошная идея пришла мне в голову? Пора кончать эту свару между хасидами и миснагдим. Я соберу хабадский миньян, мы приедем сюда на могилу и завершим двухвековую распрю, да?
– Вряд ли Гаон станет с вами разговаривать. А больше тут завершать не с кем.
Но Авигдор не слушал, его несло:
– Отцы ели виноград, а у детей оскомина. Сделаем «лехаим», почитаем псалмы, поучим хсидус – и делу конец.
– Ой ли, конец?
– Конец, конец, я тебе говорю, нет такой преграды, что устоит перед желанием, да?
Всю дорогу обратно он гудел и, крутя руками, словно пропеллером, перечислял тех, кому он позвонит, кто согласится наверняка, а кого придется уговаривать. Когда автобус въехал на улицы старой части Вильнюса, Авигдор уже призвал под свое знамя около тридцати хабадников и лихорадочно соображал, как и у кого их разместить. От продолжения разговора я уклонился, сославшись на семейные дела, и поскорее удрал.
Еврейский мир очень тесен, и слухи в нем разносятся со скоростью электричества, мчащегося по телефонным проводам с одного конца света на другой. После возвращения в Ленинград Авигдор развил бурную деятельность и даже начал собирать с потенциальных участников деньги на билеты. Дело начало приобретать реальные очертания, пока кто-то из хасидов не поведал о затее одному из заезжих раввинов, проникавших в Союз под видом невинных туристов. Раввин пришел в ужас и тут же позвонил в Бруклин другому раввину, тот написал записку Любавичскому Ребе. Что точно ответил Ребе, молва не сохранила, но Авигдор несколько дней ходил с видом побитой собаки и возвращал собранные деньги. Так бесславно, даже толком не начавшись, закончилась попытка хасидско-литовского примирения.
Другой, особенно запомнившийся мне чудак был геофизик, уволенный за подачу документов на выезд. Поначалу его идеи показались мне довольно здравыми, и несколько раз я даже помогал ему производить измерения. Геофизик предположил, будто святость места должна повлиять на давление, напряженность магнитного поля, радиоактивность и на другие, неведомые мне физические параметры. Короче говоря, он решил поверить алгеброй гармонию.
Для чистоты эксперимента мы провели замеры в нескольких явно прозаических местах: на Кальварийском рынке, возле центрального универмага и рядом с Дворцом спорта.
Вначале геофизик удовлетворенно посвистывал, но, по мере накопления массы данных, радостное возбуждение начала работы постепенно сменилось унынием. Разница между замерами никак не вписывалась в теорию.
В конце концов мы добрались и до могилы Гаона. Датчики установили в трех точках внутри склепа и в четырех снаружи. Увы, показания оказались близки к данным, полученным возле Дворца спорта. Судя по всему, святость места определялась какими-то другими параметрами.
– Так, – сказал геофизик и решительно достал из рюкзака саперную лопатку. – Эксперимент нужно доводить до конца. Сейчас выроем шурф и заложим датчики в непосредственной близости к святым мощам.
– Насчет мощей это ты с христианством напутал, – ответил я, отпихивая лопатку в сторону. – Знаешь, что произошло с теми, кто переносил могилу?
Выслушав мой рассказ, геофизик усмехнулся и, присев на корточки, решительно вонзил лопатку в землю.
– Мы же не будем добираться до тела, рядом пройдем, для науки, для истины.
Я положил руку на его плечо и слегка встряхнул.
– Послушай, до тех пор, пока я хранитель могилы, никаких раскопок тут не будет. Понятно?
– Понятно, – неожиданно легко согласился геофизик и упрятал лопатку поглубже в рюкзак. Поразмыслив несколько минут, он нашел другое решение: провал эксперимента объяснился неточностью приборов.
– Смотаюсь в Москву, привезу оттуда современные аппараты, и заживем, как никогда! – пообещал он, сворачивая оборудование.
О дальнейшем ходе расследования мне ничего не известно: то ли геофизик получил разрешение и благополучно отбыл в милую его сердцу Австралию, то ли ему так и не удалось раздобыть в Москве вожделенные приборы.
Перед отъездом из Вильнюса он успел забежать в синагогу и пару часов покопаться в библиотеке. Обнаружив старый молитвенник, геофизик выцыганил его у реб Берла. Зачем – непонятно, на иврите он не знал ни одной буквы. Наверное, его привлекла дата издания, ему показалось, что такие древние книги стоят много денег.
– А что за молитвенник? – поинтересовался я у реб Берла.
– Да какой-то непонятный, – ответил он, – не ашкеназский и не сефардский. Делать с ним всё равно нечего, пусть берет, хоть одному еврею радость от этой книги.
Время шло, и с медленным поскрипыванием его колес, неспешным проворачиванием, постукиванием и равномерным боем часов меч опустился на узел моей семейной жизни, и сплетенные, казалось бы, навечно, половины разлетелись, свободные, в разные стороны, зализывая раны и отирая кровавый пот. Следующий шаг почти автоматически привел меня в ОВИР: отдел виз и регистраций.
Внимательно изучив мои документы, миленькая литовка с волосами цвета выцветших рыбацких сетей и в форме капитана милиции вернула анкету.
– Вы не ошиблись? – спросила она, протягивая лист, где указывалась степень родства. – Графы не перепутали?

Действительно, выглядело это странно. В графе «остающиеся родственники» стояли имена отца, матери, бабушек, брата, бывшей жены и двух детей. В месте, где нужно было указать, с кем я желаю воссоединиться, сиротливо чернела только одна фамилия. Степень родства выглядела еще более странно: брат жены брата.
– Нет, не перепутал.
В руках у капитанши оказалась копия свидетельства о разводе.
– Вы специально развелись для выезда? Еще двух недель не прошло.
– Так получилось.
– Хорошо, оставляйте документы. Однако хочу вас сразу предупредить, шансы невелики.
– Б-г поможет.
Капитанша улыбнулась.
– Надежда – мать дураков, но без нее не прожить.
Не понравилась мне ее улыбка. Улыбка спокойной уверенности в правоте порядка и стоящей за ним силы. Улыбка исследователя, изучающего забавную мушку под объективом микроскопа.
За ответом следовало прийти минимум через месяц, как раз на следующий день после Рош а-Шона. Оставалось уповать на лучшее и молиться.
Три недели прошли незаметно, а на четвертую тучи над моей головой начали сгущаться, и тяжелые капли, провозвестники приближающейся бури, забарабанили по зонтику «упования на лучшее».
К соседям по коммуналке в Старом городе, где я временно снимал комнату, явился участковый и начал наводить справки о моем моральном облике и уровне нарушения общественного порядка. Сама постановка вопроса сразу переводила меня в подозреваемые, и всё, что оставалось выяснить, – это насколько мой образ жизни наносит вред окружающей советской среде. Соседи, каждый по одиночке и шепотом, доверительно поведали мне о визите, заверив, будто именно они, в отличие от всех прочих соседей – ну, ты понимаешь, кого я имею в виду, – сообщили только самое лучшее.
Положиться на их шепот мог только круглый дурак, я не сомневался, что в руках участкового оказалось достаточно материалов, способных послужить основанием для суда. Впрочем, суд мог состояться и вовсе без наличия каких бы то ни было материалов, но всё-таки визит участкового представлял собой отчетливый симптом начинающегося процесса.
Окончание следует
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
E-mail: lechaim@lechaim.ru