[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2005 ИЯР 5765 – 6 (158)
СВИНЬЯ В АПЕЛЬСИНАХ
Яков Шехтер
Окончание. Начало в № 5, 2005
Реб Шлойме нырнул еще раз и вдруг вздрогнул, прямо посередине погружения. Свинья выбила его из колеи, и он позабыл, что сейчас обязан находиться в центре Рамат-Гана. Два дня назад он договорился о встрече с поставщиком, и сегодня они должны выбрать товар.
Реб Шлойме резко выпрямился и полез из миквы. Поручни, прежде казавшиеся ему горячими, теперь приятно холодили руки. Войдя в раздевалку, он прошел к тому месту, где оставил одежду и с ужасом обнаружил, что оно абсолютно пусто.
О миква! Есть ли еще на свете столь универсальное средство исправления заблудших! Воды твои очищают души от налипшей скверны, а раздевалка наставляет тела на путь истины.
В Бней-Браке нет полицейского участка, да и сами стражи порядка сюда не часто заглядывают. В городе не грабят, не убивают, не насилуют и не воруют, если и происходит иногда нечто подобное, то лишь благодаря заезжим гостям, решившим попастись на спокойных лугах религиозного города.
В полицию здесь не принято обращаться, разве в самых крайних случаях, поэтому отыскать управу на потерявшего чувство меры соседа довольно трудно. И на помощь приходит миква, вернее ее раздевалка: врата надежды и спасения.
Когда выходящий из бассейна нарушитель спокойствия не находит на крючке своих брюк, он не думает о краже. Кому, ну кому в самом-то деле нужны брюки, в которых ходят в микву?! Исчезновение брюк есть сигнал, предупреждение: остановись, человече, оцени и взвесь свои деяния, наверное, ты в чем-то не прав.
Брюки быстро находятся, обычно их вывешивают за дверями миквы, дабы входящий понимал – здесь совершается правосудие.
Если же исчезновение брюк не оказывает своего целительного воздействия на заблудшую душу, в ход идет более действенное средство, такое, как исчезновение всей одежды. Если же и этот знак остается втуне, обращаются к «стражам скромности».
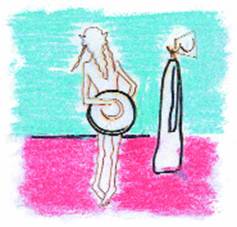
– Кто они, загадочные «стражи скромности»? – спросит заинтригованный читатель. – Что за таинственная организация, стоящая на пути беззакония и разгильдяйства?
Увы, не на все вопросы существует открытый ответ, есть стороны жизни, вынужденные пока оставаться в тени.
Исчезновение одежды, да еще всей сразу, означало полный крах самоидентификации реб Шлойме. Его представление о месте в обществе, казавшееся еще несколько минут назад достойным и незыблемым, стремительно испарялось, исчезая в прохладном воздухе раздевалки подобно пару.
«Свинья, проклятая свинья»! – мысленно завыл он, устремляясь к двери, ведущей на улицу.
Выходить наружу реб Шлойме, конечно же, не собирался; появление голого мужчины плохо согласуется с нормами скромности и приличия, но высунуть голову и глянуть, не висит ли там его одежда, не запрещает ни Тора, ни постановления раввинов.
Он подошел к двери, протянул руку к замку и… поскользнулся. Рука, совершив волнообразное движение, уткнулась в вешалку и, попав на чью-то шляпу, сдержала падение. Шляпа, разумеется, превратилась в плоский блин.
«Ах, как нехорошо, – думал реб Шлойме, пытаясь придать ей прежнюю форму. – Просто свинство!»
Перевернув шляпу, он поискал имя хозяина, обычно выведенное несмываемой тушью на подкладке и, к величайшему удивлению, обнаружил там собственную фамилию.
– Идиот! – со злостью подумал реб Шлойме и топнул ногой. – Перегрелся в микве и позабыл, где раздевался. Идиот!
Простим нашему герою лексикон, не совсем подходящий внешности, возрасту и месту проживания. В конце концов, обращался реб Шлойме к самому себе, да к тому же мысленно. Но если всё ж таки у нас найдутся критические мысли и конструктивные предложения, давайте в первую очередь обратим их на самих себя, а уже во вторую – на литературных героев.
Быстро набросив кипу, отерев руки и лицо и с трудом натянув прилипающие к телу трусы, реб Шлойме вытащил из кармана капоты сотовый телефон и набрал номер поставщика. До условленного времени встречи осталось пять минут, можно извиниться и замять оплошность. Но телефон не отвечал, реб Шлойме еще раз набрал номер, еще раз недоуменно послушал длинные гудки и спрятал телефон.
«Видно, что-нибудь стряслось», – подумал реб Шлойме. Поставщик славился своей обязательностью и просто так не отвечать на звонок клиента не мог.
Спешить теперь было некуда, реб Шлойме тщательно вытерся полотенцем, оделся и двинулся к дому Ребе. Сотни разных мыслей осаждали его голову, но реб Шлойме отгонял их прочь, настраиваясь на главное.
К Ребе не приходят в духовном смятении. Хасид идет к Ребе, как первосвященник в Святая Святых, ведь встреча с Ребе, – это почти встреча с Высшим Началом! Через глаза Ребе на хасида смотрит Вечность, а его языком двигает Провидение.
Секретарь Ребе оторвал голову от книги, и взглянул на реб Шлойме. Толстые линзы увеличивали его зрачки до неправдоподобных размеров, человек, впервые приходящий на прием, пугался уже при одном виде секретаря.
– Ребе сейчас занят, – сказал он, неодобрительно рассматривая реб Шлойме. Судя по выражению его лица, посетители, безостановочно толпящиеся в приемной, лишь отвлекали Ребе от важных дел. – Придется подождать.
Реб Шлойме покорно кивнул и опустился в кресло. Ребе всегда занят, за всю свою жизнь реб Шлойме только один раз попал на прием без долгого ожидания; Рахель рожала двенадцатого, и нужно было срочное вмешательство врачей, а делать операцию без совета Ребе хасид никогда не согласится.
Оставим же его сидящим в приемной, нервно покусывающим кончики усов и припоминающим возможные прегрешения. Неважно, что скажет ему Ребе, жизнь сложна и многогранна, и каждому мудрецу найдется о чем поговорить. Главное – как воспримет его слова тот, кто пришел за советом. Быть хасидом на самом деле куда сложнее, чем быть Ребе. Но за нашего героя можно не беспокоиться: указания Ребе он исполнит до последней точки, до самого конца острой завитушки буквочки «юд».
А в это время… Обидно сознавать, что самые эффектные приемы повествования давно затерты до дыр, и рассказчику приходится рассыпаться мелким бесом, дабы найти им замену. И вместе с тем множество непрестанно повторяющихся идиом до сих пор не превратились в трюизм. Сколько ни повторяй: «пропади оно всё пропадом» или «Г-споди, помоги», никому в голову не придет упрекнуть тебя в банальности. Давайте же отставим в сторону условности, придуманные критиками, и посмотрим, что же происходило в это время на главной улице Бней-Брака.
Незадачливая посетительница мясной лавки шла, с трудом удерживая слезы. Нет, слова реб Шлойме ее не задели, тем более что их смысл остался для нее сокрытым. О вреде и бессмысленности религиозных запретов она тоже не думала: ее мнение сформировалось много лет назад, в агитбригадах «Синей блузы».
Но почему всё время «она» да «она»? Давайте назовем имя героини в полный голос и еще раз оглядим ее всевидящими глазами повествователя.
Итак, она звалась Соней, роста была среднего, худощава, двигалась легко и грациозно. Платье из чуть выгоревшего голубого ситца ладно охватывало фигуру, коротко подстриженные седые волосы создавали вокруг головы подобие сияния. О возрасте женщин говорить не принято, поэтому и мы не станем произносить его вслух, отметив лишь, что вторая цифра в нем была шестеркой, а первая недалеко ушла от второй.
Приехала Соня из деревушки в Восточной Сибири, название которой ничего не скажет читателю, где преподавала русский язык и литературу, вырастив несколько поколений любителей поэзии. Из всех поэтов, после Пушкина, Соня выделяла Ивана Бунина и часто на уроках читала его стихи. Здоровье, кроме небольшого покалывания в желудке, позволяло о себе не думать. Маленькая точка, притаившаяся на слизистой оболочке, через несколько лет обратится в большую проблему, но к нашему рассказу она не имеет никакого отношения.
В Израиль Соня попала вместе с мужем Артемом. Вы спросите, как из безымянной сибирской деревушки оказываются в Бней-Браке? Я скажу вам, я отвечу. Иначе для чего, собственно, мы затеяли разговор…
В тридцать шестом году начальника Н-ского военного округа вызвали в Москву. Округ располагался далеко за Уральским хребтом, и его размеры, особенно по тем безсамолетным временам, казались необозримыми.
В Москву начальник округа отправился на бронепоезде, вместе с двенадцатилетней дочерью.
«Командировка – прекрасная возможность показать ребенку столицу», – думал начальник округа, прислушиваясь к мелодичному позваниванию стакана в подстаканнике.
Чай – крепкий, рубинового цвета напиток давно был выпит, за окном шелестела темнота, и мысли, которые начальник гнал от себя последние месяцы, потихоньку завладевали его сердцем.
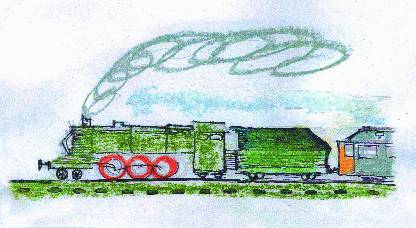
Предчувствие – так на языке людей именуется последняя, не закрытая до конца связь с Высшим началом. Своими поступками, словами и мыслями закрывает для себя человек диалог с Первоисточником, собственными руками возводит бетонную стену, сквозь которую мысль не пролетит и крик не пробьется. И только предчувствие – узенькая щелка, оставленная по милости Всевышнего, позволяет уловить запах чернил Небесной канцелярии.
– Сонюшка, – позвал начальник округа,– сядь возле меня.
Девочка послушно отложила книгу и пересела из глубокого кожаного дивана на стул рядом с отцом. Она дорожила каждой минутой отцовского внимания, редкой радости ее одиноких будней. Мать Сони умерла при родах, отец, бесконечно занятый на службе, появлялся дома только поздно вечером. Воспитывали девочку школа, домработница и книги, которые она читала взахлеб, погружаясь в смутный мир теней по самую макушку.
– Со-ня, – произнес отец, словно проверяя каждый звук ее имени. – Со-ня. Давно хотел тебе рассказать, но не получалось. Ты уже большая, взрослая девочка, вот, послушай.
В начале Гражданской меня ранило, рана быстро затянулась, но навалился тиф, а за ним подоспели белые. Наш госпиталь оторвался от частей и застрял в Ковне. Когда появились казачьи разъезды, охрана сбежала, бросив подводы с ранеными прямо на улице. Я плохо помню, как всё произошло: шел снег, у меня был жар, и я не мог даже смахнуть снежинки с лица, они таяли, и прохладные струйки затекали за шиворот. Наверное, я бредил, скорее всего на идише, или повторял молитвы, вызубренные в детстве. Это меня и спасло.
Проходившая мимо девушка услышала мое бормотание, побежала за отцом, и они перенесли меня к ним домой. Спустя несколько часов не успевших замерзнуть раненных изрубила в куски казачья сотня.
Начальник округа посмотрел на дочь и вздохнул.
– Ты знаешь, как меня зовут?
– Конечно! – удивленно откликнулась девочка. – Семен Иванович, разве я могу не знать?
– Мое настоящее имя Шлойме, Шлойме Исаакович. Так меня назвали в честь деда. И тебя я назвал тоже не просто так.
Девушку, что спасла меня, звали Соней. Я прожил в их доме до весны, пока полностью оправился от болезни. Она ухаживала за мною, словно за самым близким человеком, и в конце концов произошло то, что часто случается в таком возрасте.
Начальник округа замолчал и испытывающе поглядел на Соню.
– Вы полюбили друг друга? – подсказала девочка.
– Да, – с облегчением вздохнул начальник. – Хорошо, что ты уже всё понимаешь.
Мы очень хотели пожениться, но отец Сони даже слушать не хотел. Их семья была религиозной, а я, юный безбожник, совсем не вписывался в его представление о зяте. Наверное, нужно было просто убежать вместе, но Соня не могла ослушаться родителей.
– Пусть закончится война, – решила она после долгих колебаний. – Если и тогда отец не согласится, уйду вместе с тобой.
Война закончилась, и Соня оказалась в Литве, а я в РСФСР. Мои попытки разыскать ее через наше посольство ни к чему не привели, но я не успокаивался, писал, наводил справки до тех пор, пока меня не вызвал командир дивизии и прямо не предупредил, что эти поиски до добра не доведут. А потом, потом я встретил твою мать, и всё изменилось. Но имя тебе я выбрал не просто так, понимаешь, не просто так.
Начальник округа отвернулся и долго смотрел в темноту за окном.
– Прошлой ночью я видел во сне своего деда, – наконец произнес он. – Того самого, Шлойме. Он сказал мне, что мы скоро увидимся.
Девочка недоуменно повела плечами.
– Ерунда это, папа. Сны – поповские выдумки. Скоро мы перекуем наше сознание и перестанем видеть сны. Лег и встал; свежий, готовый к новому дню.
– Да, конечно, – вздохнул начальник округа. – Конечно, ты права. Наверное, я просто устал. Пойду отдохну. Спокойной ночи, Сонюшка.
– Спокойной ночи, папа.
Возле двери начальника остановил голос дочери:
– Папа, а почему ты не назвал меня в честь мамы?
– Это было бы слишком тяжело, дочка, – ответил начальник и вышел из купе.
Придя к себе, он уселся на диванчик, уронил голову в руки и надолго задумался. Он думал об ограниченности человеческого сердца, не способного вместить больше одной любви, о жене, не сумевшей заполнить пустоту, возникшую в его душе, о дочери, в которой совместились две женщины: одна – любимая и вторая – единственная. Он слишком мало занимался Соней, пытаясь остудить сердце пеной ежедневных забот, а в результате... В результате ему не о чем говорить с собственной дочерью.
«Ничего, ничего, – успокоил себя начальник, укладываясь на диван. – Всё еще можно переменить. С завтрашнего дня, да, прямо с завтрашнего дня он начнет уделять Соне больше времени. Она еще маленькая, всё еще можно переменить. Ничего, ничего…»

Разбудил его резкий стук в дверь. За стеклом по-прежнему стояла темнота, но вагон не покачивало, значит, поезд остановился на каком-то полустанке.
– Извините, – командир бронепоезда выглядел растерянным. – Тут вот, – он указал подбородком на трех человек в форме. – Говорят, что за вами.
Что случилось с отцом, Соне неизвестно. Возможно, где-нибудь в архиве хранится его дело с подробностями следствия и тюремной фотографией, у нее же, кроме короткого сообщения о реабилитации и детских воспоминаний, не осталось ничего, совсем ничего.
После ареста отца Соню перевели в детский дом для детей врагов народа, квартиру со всеми вещами конфисковали. О нескольких годах, проведенных в этом учреждении, Соня старалась не вспоминать. Много там было всякого, но какой спрос с ребенка? Ни мужу, ни детям своим она ничего не рассказывала. В последнее время ей стало казаться, будто выдавила из себя эти воспоминания.
В сорок втором году, сразу после того, как Соне исполнилось шестнадцать, ее выслали в Сосновку, крохотную деревушку, затерянную среди дремучих зауральских лесов Курганской области. До районного центра нужно было добираться полтора дня, и советская власть в деревушке существовала лишь номинально. Жили тут по старинке, как привыкли, заменив лишь церковные праздники пролетарскими, а вместо портрета царя повесив изображения Ленина.
Будущее рисовалось Соне в самых черных красках; помимо ежедневного изнуряющего труда требовались отвоеванный у леса участок, инвентарь, домашняя живность и главное – навыки выживания в этом краю, которые у нее, городской жительницы, отсутствовали напрочь.
Но у человека свое видение ситуации, а у Провидения свое. На второй день после приезда к Соне пришел секретарь партячейки.
– Вот чо, красавица, – сказал он, внимательно оглядывая Соню. – Я слышал, ты грамотная, книжки читать любишь.
– А от кого вы слышали? – не удержалась от вопроса Соня. В Сосновке она еще не успела ни с кем разговориться, и осведомленность секретаря настораживала.
– Добрые люди рассказали, – усмехнулся председатель. – С тобой дело пришло, следить я за тобой должон и в центр сообщать, ежели чего.
Он замолчал, хитро поблескивая глазами. Его откровенность еще больше насторожила Соню.
– Да не боись, не боись ты так, – принялся успокаивать секретарь, – у нас тут не Москва и даже не Курган. Мы не по бумажкам человека судим, а по его сути, по душе. Душа у тебя хорошая, это сразу видно. И грамотная ты, книжки читать любишь. А у нас детишек учить некому, не посылать же их мять лапти за тридцать верст. Будешь у нас учительницей. Избу сегодня приготовим, а с завтрева и приступай. Кормить будем всем сходом, в складчину, только детишек хорошо учи. Лады?
Так началась Сонина жизнь. Настоящая жизнь, словно не было детдома и зловещего личного дела. По документам, оформленным секретарем, она работала уборщицей при сельсовете, а обязанности учителя выполнял сам секретарь. Несколько раз в неделю он появлялся в школе, строго насупив брови, обходил детей, расспрашивая об оценках и поведении, а в конце визита выдавал отличникам самодельных петушков на палочке. Петушков варила из жженого сахара жена секретаря.
Комиссии до Сосновки не добирались, и несколько лет протекли медленно, словно вода в Соснушке – мелкой речке, лениво бормочущей у околицы. Летом утро начиналось разноголосым перезвоном колокольчиков – колхозное стадо брело на лесные поляны. Розовый туман вплывал в открытые окна школы, стоящей на самом берегу Соснушки; черная как деготь, ночная вода голубела, с каждой минутой становясь прозрачней. Сквозь нее проглядывали промытые камушки, утонувшая хвоя и оловянные, суетливо снующие рыбки.
Соня жила при школе: горница избы служила классом, а в маленькой комнатке размещались постель и нехитрые пожитки учительницы. День пробегал незаметно, заполненный до краев бесчисленными заботами деревенского хозяйства. Всё нужно было делать самой, без водопровода, электричества и даже примуса.
Вечером над улицами повисали запахи парного молока и пыли, поднятой копытами возвращающихся коров. По мерцающей воде расходились широкие круги – крупная рыба поднималась со дна, играя на закате. Темнота наливалась в зарослях, дрожали низкие звезды, крупные, словно серебряные пуговицы. Ночами в лесу, стеной окружавшем деревню, негромко выли волки.
«Они, наверное, скучают в темноте, – думала Соня, – и просятся в деревню, поближе к людскому теплу».
Зима опускалась на Сосновку в конце сентября и стояла, неотступная, точно латышский стрелок, до начала апреля. Каждое утро, растапливая печь, Соня мечтала о коротком лете и мимолетней осени, мечтала с замиранием сердца, не понимая, что ожидает, на самом деле совсем другого. Но другое не наступало, парней в деревне не осталось, всех забрали на фронт.

Удивительное существо человек! Ко всему он приспособится, в любом положении совьет уютную норку и начнет претендовать на большее. Еще совсем недавно положение учительницы казалось Соне недосягаемой мечтой, запредельным блаженством, и вот она уверенно расхаживает по деревне, здоровается с матерями учеников, заводит неспешные разговоры об успеваемости и проказах, а сама мечтает и томится, словно мало ей спокойной жизни и надежного куска хлеба.
О предательстве отца Соня старалась не думать. Оно казалось ей чудовищным недоразумением, ошибкой, нелепицей. Предположить нечто большее, заподозрить партию или самого товарища Сталина Соня не могла. Школа вместе с домработницей хорошо воспитали бедную девочку.
Успокоение пришло после разговора с секретарем партячейки. Спустя полгода ее пребывания в деревне, он пришел в школу в неурочное время, под вечер. Придирчиво осматривал класс: не протекает ли крыша, не дует ли из окон, листал журнал, рассматривал исписанную доску, а потом, свернув самокрутку, заговорил, отводя глаза в сторону.
– Ты, того, дочка, не думай на советскую власть худо. Не держи зла. Страна большая, люди разные, мало ли чо... Я твово батьку два раза видел, он у Блюхера комиссаром полка был, а я помкомвзвода. Помню, как выступал, как народ его слушал. Не может такой человек стать японским шпионом. Ошибка тут вышла. Как с Блюхером. Но разберется партия, увидишь, во всем разберется.
Пока партия разбиралась, жизнь шла своим чередом. Закончилась война, вернулись мужики и парни. Сыграли несколько свадеб, но на Соню никто не позарился. Или потому, что чужая, непривычная к деревенской работе и жизни, или тень репрессированного отца продолжала висеть за ее плечом, словно ангел-губитель. Соня понимала свое положение и не роптала, лишь ждала всем сердцем наступления лета.
И невозможное произошло. Говорят, что чудо – это проекция мечты на человеческую реальность. Иногда проекция получается кривой, иногда горбатой, иногда выходит под стать, словно по заказу, но если не мечтать, не плакать ночами в подушку и не вздыхать, просыпаясь в одинокой постели, вообще ничего не произойдет. Не бывает слез, пролитых напрасно. За подкладкой каждого чуда скрываются чьи-то просьбы и молитвы до рассвета, но со стороны кажется, будто всё случилось само собой, по мановению волшебной палочки.
В сорок седьмом возвратился из армии Артем, сын секретаря. Вся гимнастерка в медалях и орденах, старший лейтенант, войну закончил на Эльбе. Сосновские красавицы, да что там сосновские, красавицы целого района, мечтали о его благосклонности, а он как увидел Соню, так и присох, точно приклеенный. Соня поначалу не верила своему счастью, а когда убедилась, что это не сон, успокоилась и расцвела, словно водяная лилия.
Свадьбу сыграли скромную, зачем лишнее внимание привлекать, своей радостью людям глаза занозить. Артема вскорости назначили председателем колхоза, он поднял крепкий дом, рядом с избой отца, и зажил с любимой женой. Спустя год родился мальчик, названный Семеном в честь отца Сони, а за ним и девочка, Настасья, по бабушке Артема.
В начале пятидесятых, то, чего опасалась Соня, наконец произошло: в Сосновку приехал инспектор. Он посмотрел поурочные планы, журнал, заполненные женским почерком, поговорил с ребятишками на улице и пошел к секретарю.
– Что же это такое получается? – спросил инспектор, укоризненно глядя на секретаря. – Советскую власть обманываешь? Знаешь, что за такое бывает?
– Ты вот чо, Митя, – ответил секретарь, – ты мне невестку не трожь. Это во-первых. А во-вторых, какого рожна тебе надо? В деревне она десятый год, никуда не выезжала, и к ней никто не наведывался. Писем она не пишет и обратно не получает – это я самолично проверял. Детей учит лучше некуда, да своих двоих поднимает.
А про советскую власть не говори. Советская власть – мы с тобой. Нам и решать, доверять Соне или еще одну судьбу под откос пустить.
Проверяющий в двадцатом ходил с армией Блюхера на Владивосток, успел поработать в райкоме и чудом избежал репрессий, зацепившись на посту инспектора наробраза. Неприметно провернулись колесики Провидения, и еще одно чудо вплыло в нашу реальность.
– Предположим, – ответил проверяющий, отводя глаза, – я всякое такое напишу, не замечу. А если чужого принесет, из области? Что тогда делать?
– Пока комиссия нагрянет, – философически ответил секретарь, – нас с тобой уже не будет. Зачем думать о плохом? Давай надеяться на лучшее, тогда оно наступит.
Так и выжила Соня, проскользнув мимо смертельных опасностей, словно овечка между семидесяти волков. А в пятьдесят пятом в простом конверте пришла бумага, сообщающая о посмертной реабилитации незаконно репрессированного начальника военного округа. Соня даже не заплакала, жизнь вне Сосновки казалась ей сном, несуществующей, придуманной сказкой.
– Разобралась партия, – подвел итог секретарь и велел жене накрывать на стол. – Выпьем за покойного, Семена, как его по батюшке?
– Исааковича, – подсказала Соня, вспомнив последний разговор с отцом. – Шлойме Исааковича.
– Шлойме Исааковича, – согласился секретарь. – А тебе спасибо от советской власти, что не озлобилась и не очерствела.
Секретарь всё еще считал себя представителем государства.
Прошло несколько лет, в Сосновку провели электричество, проложили шоссе. Соня закончила заочно пединститут и теперь законно считалась сельской учительницей. Успеваемость в ее школе была одной из лучших по области, и стены горницы начали потихоньку покрываться почетными грамотами и вымпелами.
Несчастье пришло внезапно. Впрочем, когда его ждут? Не верит человек зловещим прогнозам, рассчитывая на лучшее, и когда валится на него давно предсказанная беда, удивленно разводит руками – как же так, за что и почему?
Три года подряд стояло засушливое лето, не сказать засуха, но необычное по малости дождей время. Колхоз три года подряд не выполнил план по сдаче зерна и, невзирая на объективные обстоятельства и предыдущие заслуги, Артема сняли.
Первое время он ходил растерянный, не в силах поверить в случившееся, а потом запил. Пил он несколько лет, пил истово, словно отдавая долг. Соня пыталась бороться, но быстро сдалась, только часто плакала по ночам, вспоминая счастливые годы, пролетевшие слишком быстро.
– Соня, твово принесли, – раздавался посреди дня крик соседки. – Иди, сымай.
Дружки доволакивали Артема до ограды и вешали на забор, точно мокрое белье. Он или спал, пуская слюну, или ошалело поводил головой, икая и порыгивая.
В один из дней Артем пришел к ней на работу около полудня, небритый, но трезвый.
– Соня, – Артем выглядел виноватым. – Я знаю, ты мне не поверишь. – Он замолчал, разглядывая пол перед сапогами. – Ну, в общем, я больше не пью. Всё.
Соня не поверила, но на всякий случай, обхватив мужа руками и прижавшись к его колючей щеке, немного порыдала. Артем гладил ее по плечам и повторял:
– Всё, раз сказал всё – значит, всё. Всё, и всё тут. Всё!
Оказалось, что он не соврал. Жизнь постепенно пошла на выправ, распрямляясь, разглаживаясь, словно белье под тяжестью утюга. Спустя год Артема назначили бригадиром, а выше он и не стремился. Бригада быстро стала передовой, ударной, показательной, и вслед за почетными грамотами посыпались предложения.
– Плавали, знаем, – отвергал он очередную должность. – Мне и тут хорошо.
Выросли дети, Семен женился и осел в Сосновке, а Настя, радость и утешение Сони, уехала учиться на актрису. Столичная жизнь закружила голову деревенской девочке. Большим талантом она не обладала, но, несмотря на второстепенные роли, из Москвы уезжать не хотела. В своих творческих неудачах Настя винила юдофобов, пронюхавших о национальности ее матери. Правда, заподозрить в ней еврейку мог только необычайно проницательный антисемит: статью и говором Настя походила на Артема и могла служить образцом сибирячки.
Возможно, эта обида и сыграла решающую роль в ее судьбе: как только приоткрылась щелка в железном занавесе и поток еврейских репатриантов полился благословенным дождем на Святую землю, Настя собрала документы и упорхнула.
В Израиле ее жизнь покатилась по совсем другим рельсам: после двух никем не замеченных ролей Настя вышла замуж за богатого человека, родила дочку и оставила сцену. Судя по письмам и передаваемым через третьи руки подаркам, муж Насти оказался не просто богатым, а очень богатым. Но счастья это богатство ей не принесло, спустя несколько лет брак распался, и Настя осталась с дочерью на руках. Правда, беспокоиться о куске хлеба и крыше над головой не приходилось – бывший муж платил солидные алименты.
В Сосновке многое изменилось, появились телевизоры, избы-пятистенки снесли, и вместо них поднялись двухэтажные хоромы с обязательным гаражом для «Нивы». Крепко жила Сосновка, зажиточно и спокойно. Артем и Соня несколько раз ездили на курорты в Крым, и в первый же раз по дороге обратно завернули в Москву. Столица показалась им слишком нервной, заплеванной и неуютной – розовые туманы над Соснушкой из Москвы выглядели как символ безмятежного счастья.
А потом... Потом нахлынули перестройка, ускорение, распад, приватизация – всё, на что была положена жизнь, оказалось напрасным и смешным. Вплотную подошла старость, Артем, измочаленный тяжелой работой и годами пьянства, сильно сдал, а Соня еще держалась, балансируя на едва заметной грани, отделяющей стареющую женщину от старухи.
В одно осеннее утро Артем с трудом поднялся с постели и, еле добравшись до умывальника, не смог сдержать подкатившую тошноту. К вечеру рвота повторилась, на следующее утро тоже. Соня, не слушая возражений мужа, попросила одного из бывших учеников, и на его «Ниве» отвезла мужа в больницу. Главным врачом больницы работал другой бывший ученик Сони; ее воспитанники, закончив институты и техникумы, заняли в районе почти все руководящие должности.
На скудном оборудовании районной больницы Артема проверили с максимальной тщательностью и почти сразу обнаружили то, чего больше всего опасалась Соня.
– Что же делать, Коля? – спрашивала она главврача. – Что же делать?
– Есть лекарство, – ответил главврач, смущенно покачивая начинающей седеть головой. – Но у нас его нет. И в области нет. Может, в Москве или за границей. Если вы знакомы с кем-нибудь в Америке или Израиле, – он сделал многозначительную паузу, – стоит обратиться к ним.
К Насте удалось дозвониться только через три дня. Вообще-то междугородняя станция находилась в районном центре, и дожидаться связи нужно было в холодном зале переговорного пункта, но начальница станции, тоже бывшая Сонина ученица, самолично переводила разговоры в Сосновку, на номер сельсовета.
– Бабушька? – мягко прозвучал в трубке голос, очень похожий на Настенькин. – Бабушька Сонья?
Трубку взяла внучка, выяснилась, что она дома случайно, поскольку живет в общежитии при учебном заведении, а мама уже полгода как в Австралии. Выслушав Сонин рассказ, внучка немедленно приняла решение.
– Нечьего вам там сидьеть, – произнесла она тоном приказа. – Собьирайтесь и приезжайте. Гражданство оформим на месте, и деда сразу положат в больньицу. У нас с этой болезнью умеют бороться.
Бороться с болезнью в Израиле действительно умели, опасность отступила, но не исчезла, свинцово затаившись в розовых раструбах костей. Артема постоянно мутило, он перепробовал разные виды пищи, но всё вызывало только приступы тошноты.
– Свининки бы, – просил он жену. – Молодой, розовой. И огурчиков соленых.
Огурчиков в Израиле хватало, а вот со свининой дело обстояло куда хуже. Соня попыталась расспросить внучку, но та в ответ так выкатила глаза, что вопрос застрял в гортани, словно рыбья кость. Внучка, как выяснилось, стала религиозной и училась в суперортодоксальном заведении-интернате, а слово «свинина» произносила с презрительной гримасой отвращения. Собственно, из-за этого заведения, расположенного в Бней-Браке, Артем и Соня сняли небольшую квартирку на окраине святого города.
Забравшись на пятый этаж, Соня отперла дверь и вошла, стараясь не шуметь. Но напрасно.
– Сонюшка, – раздался из салона голос Артема. – Принесла?
– Ох, – тяжело вздохнула Соня. – Я долго думала, Тема, брать или не брать, а потом всё ж таки не взяла. Очень жирные куски, не умеют тут выращивать поросят, сплошное сало. Ничего, завтра с утра поеду в Тель-Авив, в деликатесных магазинах поищу. Потерпишь еще денек?
– Потерплю, – ответил Артем. – Куда мне деваться, потерплю.
Соня вошла в салон. Артем сидел на диване, худой, с ввалившимися щеками. От прежнего красавца с орденами во всю грудь почти ничего не осталось. Только глаза.
– Посюдова ходи, – указал Артем рядом с собой. – Расскажу чо.
Соня послушно опустилась на диван возле Артема.
– Ты пока гуляла, я вниз спустился. На воздух. Посидел с полчасика, а тут мальчонка мимо прошел. Чернявый такой мальчонка, из местных. Глянул он на меня, аж сердце перехватило. Сразу вспомнил.
– Что вспомнил?
– Та я ж тебе никогда не сказывал про то. Щас расскажу. Помнишь, как я пить бросил?
– Уже забыла, – ответила Соня, пряча горькую улыбку. – Давно забыла, сколько лет прошло.
– Давно не давно, а было. Случай у меня на войне случился, весной сорок пятого. Потерял я свою группу и залетел по ошибке в лагерь. Он потом американцам достался. Наши танки опоздали на пару часов, так они и вошли.
Много я там увидеть не успел, но с одним мальчонкой поговорил. Спешил очень, двумя словами перекинулись, и я рванул. Он, видно, думал, будто свобода пришла, а как понял, что я срываюсь, так глянул, аж конь подо мной замер, как чо есть. А делать-то нечего. Взять его с собой я не мог, отдал ему паек: хлеба да пару банок свиной тушенки и вскачь.
Потом, когда пил сильно, просыпаюсь однажды, голова гудит, во рту сухо, еле глаза продрал. А у постели Настюха стоит и смотрит на меня, как тот мальчонка из лагеря. Точно так смотрит. Словно с жизнью через меня прощается. И сказал я себе, чо ты, гад такой, делаешь? Нешто дети твои виноваты! И бросил, завязал навсегда.
– Навсегда, навсегда, – согласно покачала головой Соня.
– Вот я и говорю. Увидел утром мальчонку, и шевельнулось чо-то в нутре. Не болит, но присутствует. А чо не пойму.
– Давай, Тема, я шанешки заведу. Может, поешь тепленьких? Глядишь, и полегчает.
– Давай, – прикрыл глаза Артем. – Может, и полегчает.

Поставщик, ожидая реб Шлойме, неспешно прогуливался по рамат-ганской улице. Шум и толкотня почти не отвлекали его внимания от расчетов: предстоящая сделка служила всего только звеном в сложной цепочке передачи товаров, обмена чеками, полудоговоренностей и устных соглашений. Прибыль от этих комбинаций была невелика, но всё-таки была. Прикидывая, соображая и прибрасывая, поставщик медленно проходил мимо входа в ресторан, неподалеку от места условленной встречи. Заскрипев тормозами, рядом с ним остановился «фиат», из него выбрался ортодоксальный еврей в капоте и шляпе.
«Реб Шлойме», – подумал поставщик, но в то же мгновение понял, что обознался. Неизвестный ортодокс двинулся ко входу в ресторан, а «Фиат», круто взяв с места, умчался по направлению к Бней-Браку.
Автоматически проводив глазами ортодокса, поставщик отметил некоторую странность его наряда. Шляпа у него была типично «литовская», но капота – хасидская, брюки не заправлены в носки, а из-под них выглядывали кроссовки. И ресторан, зачем такому ортодоксу нужен некошерный ресторан? Поставщик еще размышлял над увиденным, как вдруг его внимание переключилось на куда более удивительное зрелище. Оранжевое солнце, висевшее в небе, словно огромный апельсин, раскололось на тысячи маленьких плодов, и все они с оглушительным грохотом посыпались с неба прямо на улицу Рамат-Гана. Недоумевая, поставщик задрал голову, и тугая струя взрыва расплющила его лицо.
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
E-mail: lechaim@lechaim.ru