[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2004 СИВАН 5764 – 6 (146)
ВЕСНА НА ОДЕРЕ И ОСЕНЬ НА МОСКВЕ-РЕКЕ
Случайный вроде бы эпизод
В. Кардин
Встреча произошла в первые повоенные месяцы, вскоре после возвращения на родину. Я оказался среди тех, кого ждала служба в Прикарпатском округе, задействованном в необъявленной войне с украинской повстанческой армией. Наше командование без особой прыти исполняло приказ, уступая первенство частям МВД. Ночью на улицах Станислава постреливали, днем исполняли Шопена.
Относительно мирная жизнь все же брала свое. В городе, скажем, проводились соревнования по волейболу. Довольствуясь ролью болельщика, я обратил внимание на одного парня. Да и он, в перерыве вытирая майкой лицо, кинул мне: «ИФЛИ?»
Город еще не лишился польского шарма, из уютных кафешек доносился одуряющий аромат. Мы тянули кофе, чашечку за чашечкой, и Семен, успевший закончить институт, рассказывал о своей армейской службе, увенчавшейся должностью начальника разведки полка. Командир полка, желая похвалить Семена, любил потрепать его по плечу: «Да разве ж ты еврей! Ты же смелый…»
Меня задевали похвалы такого сорта. Ничего похожего не доводилось слышать ни в Особой бригаде, ни в 140-й Сибирской дивизии. Невольно вспомнилось, как спустя месяц после начала войны подчеркнуто корректные люди при галстуках, непринужденно задавая вопросы вчерашним студентам, всего менее любопытствовали по части национальности. Однако дружески напоминали о чертовски опасной службе и о возможности – еще не поздно – отказаться. Ничего, мол, зазорного в том нет. Не передумал? Тогда не стригись.
В Особой бригаде, которая потом обрастет легендами, служили немало евреев. Ни один не оплошал.
Спустя десятилетия, познакомившись с П. Судоплатовым, я сообразил: «проевреенность» его Бригады неслучайна. Он понимал, что делал. Уже знал о случаях массовой сдачи в плен…
За четыре фронтовых года на антисемитизм я нарывался лишь в гитлеровских листовках. Ни с чем, хоть как-то напоминающим откровения Семенова начальства, не встречался. Не в силах был вообразить, что на подобное способен кто-либо из моих командиров. Но и забыть обидные слова не мог. В чем признался при первой же встрече с Э. Казакевичем. Она произошла более чем десятилетие спустя после станиславской встречи с выпускником ИФЛИ, чью смелость одобрил командир стрелкового полка, полагавший: евреи ею наделяются в порядке исключения.
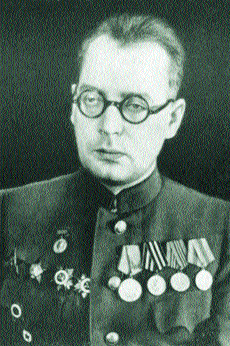

Э.Г. Казакевич. Москва. 1949 год.
«Поэма о подвиге»
Люди в штатском, деликатно предлагавшие нашим ребятам отказаться от вступления в некую сугубо секретную службу, сами не знали, о чем ведут речь. Таинственность частенько замешана на неведении. Доброхоты при галстуках и вообразить себе не могли, что трепетно внимавшим им соплякам из московских вузов, с заводов предстоит освоить разные армейские специальности, не в последнюю очередь – разведку. На переднем крае и в неприятельском тылу. Эта профессия наложит отпечаток не только на круг общения, но и на круг интересов…
Уже пройдя все, уготованное войной, они воспринимали «Звезду» Э. Казакевича чуть-чуть иначе, нежели остальные. Их интерес к автору отличала повышенная пристрастность. Откуда ему известны тонкости дела? С лауреатской фотографии смотрел хилый, рано полысевший очкарик. Из краткой биографии очкарика следовало, что в Москву он приехал из Биробиджана, где занимался Б-г весть чем: начиная со строительных работ, и кончая сочинением еврейских стихов. Однако со стихами вскоре завязал. Переселившись в Москву, пробовал силы в прозе. Уже после войны решил почитать рукопись одному из однополчан, чья жена служила в журнале «Знамя». Она заранее содрогалась при мысли, что провинциальный сочинитель вынудит ее слушать свои пресловутые «первые опыты». Сказавшись занятой, она перебралась в комнатушку, отделенную перегородкой от той, где начинающий прозаик знакомил ее мужа со своим шедевром. Дама была заносчива, но профессионально искушена. Она появилась, лишь когда гость, лязгая зубами о стекло, осушил стакан воды. Не снисходя до комплиментов, ограничившись чем-то вроде: «Прозаическая поэма о подвиге», забрала рукопись, безапелляционно бросив: «Пойдет в “Знамени”».
Мне предстояло – лучше ли, хуже ли, – познакомиться со всеми тремя участниками события, имевшего место в квартиренке на Петровских линиях, параллельных Столешникову переулку. Не вдаваясь в рассуждения, неизбежно преувеличивающие роль каждого, замечу лишь: все трое, следуя великой мудрости, спешили творить добро. Но первым все-таки оставался начинающий прозаик, в прошлом колхозный бригадир, строитель, а также еврейский поэт Эммануил Генрихович Казакевич.
«Быстры, как волны, все дни нашей жизни…»
В последующие годы я пытался следить за Эммануилом Казакевичем, читая его и читая о нем. Мои впечатления не всегда совпадали с газетными и журнальными откликами. Мне, скажем, приглянулась повесть «Двое в степи», а в печати ее разнесли. Куда меньше пришлась по душе «Весна на Одере». Однако «Весну» дружно расхвалили в печати, по радио.
Уверенно заявив о себе, входя в литературу, Казакевич уже не выпадал из поля зрения прессы, испытывая плюсы и минусы своего нового положения, отражавшего не только читательский интерес простых смертных.
Кремлевский читатель с самого начала «положил на него глаз», возлагая надежды и прикидывая: оправдает он их или нет? Подозревать этого книголюба в бескорыстном интересе не стоит. Он гнул свою линию, конечный смысл которой: принудить автора «Звезды» исполнять его волю. Пусть бы постиг хитроумие игры, именуемой «партийное руководство искусством».


Младший лейтенант Э.Г. Казакевич.
Шуя. 1942 год.
Оставаясь в тени, Сталин не гнушался лично дирижировать хором. До Казакевича иной раз с опозданием доходили отрывочные сведения о его же «жизни и творчестве», о подводных течениях, всевозможных альтернативах типа «казнить или миловать». Известность, популярность росли, но и зависимость от системы не слабела.
Редактор «Знамени» В. Кожевников месяцами мурыжил роман «Весна на Одере», то ставя его в номер, то снимая, захлебываясь в телефонную трубку от восторга либо от ярости. А когда, наконец, набравшись духу, напечатал, то и вовсе не находил себе места.
Однажды, не желая слушать Казакевича, лежавшего с ангиной, редактор-благодетель потребовал, дабы тот, одевшись потеплее, незамедлительно спустился к дверям подъезда. В редакционной «Победе», мчавшейся неведомо куда, царило молчание. Как и в бюро пропусков, где лежал заготовленный пропуск лишь для «тов. Казакевича Э.Г.» С великим трудом уломали дежурного, тот вписал в пропуск и Кожевникова.

Главный редактор сборника «Литературная Москва». 1950 год.
В сером казенном здании, судя по часовым, размещался какой-то штаб. Едва Казакевич вошел в коридор, к нему навстречу устремились полковники и генералы, бормоча что-то лестное и не замечая плетущегося следом Вадима Кожевникова.
Очередной полковник щелкнул надраенными сапогами:
«Командующий ждет вас, Эммануил Генрихович».
Какой, к черту, командующий? Кем и чем командует?
Однако осмелев, Казакевич расстегнул пальто и ослабил шарф.
В дверях радушно улыбался невысокий генерал с веснушками и
орденскими планками. 
«Чрезвычайно рад. Спасибо, что выкроили время. Простите, ежели оторвал от творческой деятельности. Позвольте представиться: генерал Василий Сталин».
Тревога не отступила. Правда, напряжение ослабело. Сынок генералиссимуса слыл самодуром, но не извергом. Боевой летчик, он открывал парады, ведя эскадрилью над Красной площадью, где первого мая (но ни в коем разе не седьмого ноября) папаша рукой норовил изобразить нечто приветственное…
На полу гигантского генеральского кабинета разложены топографические карты. Прищурившись, разведчик Казакевич смекнул: Берлинская операция.
Василий Сталин пламенно восхищался «Вес
ной на Одере». Вот только жаль, действия авиации отражены недостаточно.
«Понимаю, понимаю, у художника свои воззрения. Они святы».
«Бедолага, – подумал художник. – Ночью вместо сна листал роман. На кой ляд, спрашивается?»
 Численность лампас росла. Но они ограничивались функцией
античного хора, никто не смел солировать. Роман торопливо полистал лишь
командующий ВВС Московского военного округа В.И. Сталин. И не по своему почину.
Численность лампас росла. Но они ограничивались функцией
античного хора, никто не смел солировать. Роман торопливо полистал лишь
командующий ВВС Московского военного округа В.И. Сталин. И не по своему почину.
«Папа звонил. Наказал лично поблагодарить».
Казакевич облегченно вздохнул и подмигнул так и не пришедшему в себя Кожевникову.
Комедию явно задумал папаня, поручив главную роль сыночку, не шибко соображавшему, что от него требуется. К чему вся эта колгота вокруг начинающего сочинителя?
Но папаня всегда норовил смотреть вперед. И что же он там углядел? На кой шут приручать биробиджанского автора, имея в своем распоряжении целый полк – Союз писателей?
Понять трудно. Как и вообще трудно понять любое сочетание запредельного самодурства с холодным расчетом. И все же, не понимая до конца, чувствуешь: мурашки по коже.
Из жизни до и после лауреатства
Предвоенная передислокация с семьей из Биробиджана в Москву, где ни кола, ни двора, напоминает стремительное овладение новой позицией, чьи преимущества гадательны. Но не до жиру. В Биробиджане не стихал произвол. Отец, редактировавший русскую и еврейскую версии газеты, успел умереть до свистопляски под аккомпанемент гудков «черного ворона». Сын, лелея наполеоновские планы и отказавшись от еврейской поэзии, где успешно начинал, самозабвенно ушел в русскую прозу, проявляя стоическое безразличие к мнению тех, кто с этим оказался не согласен. Возможно, и сегодня отыщутся осуждающие сугубо личное решение молодого стихотворца.
Полагаю, Казакевич обладал большими правами на свой судьбоносный шаг, нежели те, кто видел в нем нечто предосудительное. Что до меня, то, презирая национальных «перебежчиков», в данном случае не замечаю ничего сходного с ренегатством. Никто, кроме самого писателя, не вправе и не в состоянии принять такое решение, определяя собственную готовность к нему. Казакевич отважился на рискованный выбор, надеясь и желая собственное творчество сделать достоянием многих читателей необъятной страны. Он торил свой путь, не в полной мере представляя себе литературную ситуацию, не слишком заботясь о впечатлении, какое произведет.
Результатов пришлось ждать дольше пятилетки, четыре года которой забрала война, в свою очередь, предложившая вполне неожиданный выбор…
Очкарик из московского ополчения закончит войну помощником начальника разведки одной из общевойсковых армий, штурмовавших Берлин. Он и в войну полагал возможным, – не всегда, разумеется, – исходить из собственных соображений. Скажем, задал лататы из тылового госпиталя, объявившего его дезертиром. Меж тем «дезертир» вернулся в часть и, продолжая службу, занимался своим делом – разведкой переднего края и тылов противника…
У «Звезды» вполне земное происхождение, пусть повесть и не лишена романтических настроений. Рождена она взрыхленной землей переднего края, по какой полз ее автор – близоруко щурившийся лысеющий разведчик с мощным лбом ученого, но без малейшей склонности к наукам.
Его ждал пресловутый «квартирный вопрос», доводивший до отчаяния или запоя (расхожая форма отчаяния) доблестных покорителей городов и уцелевших замков, полагавших, будто «правое дело» не исчерпывается водружением флага над рейхстагом. Однако бывший их собрат, тоже веривший в справедливость не только освобождения от немецких оккупантов определенных территорий, но оккупации их советскими частями, не надеялся внести ясность в хмельные головы. Желая утешить тех, кто годился ему в отцы, он сочинил дивную сказку о лейтенанте Травкине и его бойцах-разведчиках, отправившихся выполнять задание такого же, быть может, начальника, как и сам очкарик-сказочник.
Ему достало отваги, такта и дара, чтобы написать романтическую трагедию, повествующую об одной из довольно обычных гибельных фронтовых затей – глубокой разведке ничтожными силами при слабоватой технической оснастке…
Человеческая жизнь «от Москвы до самых до окраин» не стоила и гроша ломаного. Подобно разглагольствованиям о «справедливой войне», окончательно обесцененным сговором Сталина с Гитлером.
Само деление войн на «справедливые» (скажем, Чечня), то есть оправдывающие кровопролитие, и несправедливые далеко не столь абсолютно, как нам привыкли внушать. Поэтизация «справедливых» (повесть «Звезда», рождающая искренний порыв, не исключение) не бесспорна…
…К тому дню, когда я, воспользовавшись приглашением Эммануила Генриховича, отправился к нему, он уже обитал в престижном «лауреатском» доме по Лаврушинскому переулку. Приглашение носило чисто деловой характер. Выпустив первый сборник «Литературной Москвы», его главный редактор Э. Казакевич вознамерился продолжить начинание – бескорыстный выпуск группой писателей-энтузиастов периодического издания.
ГИБЕЛЬ МЕЧТЫ
Одна моя статья, перепечатанная машинисткой Гослитиздата, по ее воле попала на стол Казакевичу. Машинистка делала копии для редактора, верившего во второй выпуск «Литературной Москвы». Мне позвонила Маргарита Алигер, правая рука главного редактора, то бишь Эммануила Генриховича, и попросила явиться к нему поговорить о статье, перепечатанной в машбюро Гослитиздата.
В подъезде меня встретила молоденькая консьержка, готовая лично проводить гостя к Эммануилу Генриховичу.
Открыл нам дверь высокий мужчина в сатиновой косоворотке. Перехватив его взгляд, брошенный на консьержку, я заподозрил: бабник. И не ошибся. Но развивать эту тему на целомудренных страницах «Лехаима» не считаю возможным.
В прихожей стеллажи от пола едва не до потолка заполнены патефонными пластинками, выдающими еще одну слабость бывшего разведчика.
Хозяин усадил меня в кабинете за письменный стол, где уже лежала статья. Но прежде чем приступить к делу и помогая освоиться, затеял свободный разговор, позволявший мне пересказать давний эпизод с Семеном.
«Заурядный антисемитизм: среди евреев, дескать, встречаются и храбрые. В порядке, мол, исключения. Такого рода формулировочки обезоруживают нашего брата. Лестью, известно, душу вынимают».
«Я из тех представителей “нашего брата”, кои с подобным оскорбительным одобрением не сталкивались».
«Я тоже. Но к делу».
Ограничившись двумя-тремя хвалебными фразами касательно моей статьи, Казакевич сказал: «Надо посидеть над “формулировочками”». И мы засели, склонившись над текстом. Он, нависая надо мной со спины:
«Чуть мягче… Еще малость… Еще…»
Когда количество всевозможных «еще» зашкаливало, наступала оперативная пауза. Хозяин включал проигрыватель. Его выбор пластинок меня вполне устраивал. Относясь к «консерваторам», мы оба предпочитали классику. Впрочем, за обеденным столом на консерватора Казакевич не походил нисколько. Его лексика удерживалась на последней грани дозволенного, уже потесненной двумя-тремя стопками.
К сожалению, наш подвижнический труд, отнявший два дня, пошел коту под хвост. Благородное начинание группы писателей, надеявшихся плетью перешибить обух, кончилось категорическим «вето» на дальнейшие выпуски. Сборник «Литературная Москва» запретили.
Главный редактор остро реагировал на такие удары еще и потому, что продолжал питать иллюзии. Подобно шестидесятникам, известным тем, что искали у Ленина сокровенные смыслы.
ПОСЛЕДНИЕ ПОРЫВЫ
Пока пальцы держали ручку, карандаш, Казакевич тоже не расставался с надеждой на Ильича, на глубинное и окончательное постижение грандиозных заветов.
Физически бесстрашный, наделенный дерзким и независимым умом, он не мог избавиться от веры, которой чистосердечно жил его отец, жили многие товарищи по оружию.
Пусть меня не толкуют превратно и не подозревают, будто я использую преимущества пережившего. Тем паче – преимущества-то достаточно сомнительные.
В нынешнем царстве цинизма, при оглашенной погоне за чистоганом и чудовищном расслоении, при явном умственном оскудении претендующих на положение «отцов народа» мы лишены права бросать камни в людей, веривших благородно и бескорыстно. В тех, к кому до последнего часа принадлежал Казакевич.

Маргарита Алигер.
Болезнь стремительно брала свое несмотря на попытки ее затормозить. Через одного из помощников Хрущева А. Твардовскому удалось получить разрешение применить запрещенную, несмотря на якобы мифическую чудодейственность, «жидкость Качугина», разжиться несколькими бутылками.
В женском царстве, окружавшем Э. Казакевича, своей активностью выделялась Маргарита Алигер, жительница соседнего подъезда. Она вступала в контакт с инстанциями, а то и действовала в обход.
Однако состояние Эммануила Генриховича ухудшалось. Решили установить ночные дежурства представителей мужского пола. Эффект был чисто психологический для самого окружения.
Но ни днем, ни ночью стонов, жалоб больного слышать не доводилось. Позже медсестра из литфондовской поликлиники мне признается: «Он умел терпеть и молчать, обманывая вас, отчасти и нас».
Необходимость в ночной вахте отпадала.
Хмурым осенним днем шестьдесят второго года его не стало.

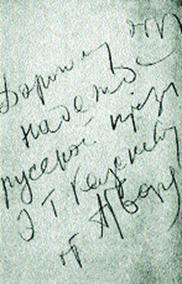
Надпись А. Т. Твардовского на книге «Василий Теркин», подаренной Э.Г. Казакевичу. 1950 год.
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
E-mail: lechaim@lechaim.ru