[<< Содержание] ЛЕХАИМ НОЯБРЬ 2003 ХЕШВАН 5764 – 11(139)
КАВАЛЕРИСТ С СУЩЕВСКОЙ УЛИЦЫ
В. Кардин
Первые июньские дни прошли в напряженном ожидании, заставляя вздрагивать при каждом телефонном звонке. И тот, какого я так боялся, прозвучал: «Сегодня ночью...»
Ночью оборвалась жизнь че
ловека, с которым судьба связала меня на неправдоподобно долгий срок. Связала прихотливо, с длительными паузами и с непредугаданными встречами.
Легко ли было вообразить, что два школьника с одной московской улицы хмурой дождливой осенью сорок четвертого свидятся на склонах Карпат? Что в убогую землянку войдет, звякнув шпорами, сержант, с которым когда-то мы вместе ходили в школу неподалеку от Пименовской улицы, именовавшейся в ту пору «Краснопролетарской»? Сейчас она снова Пименовская. Нашу же улицу поветрие с переименованиями обошло. Как была Сущевской, так и осталась, ничем не примечательная: слева – укрытая деревьями читальня имени Сурикова, наискосок – типография, дальше какой-то заводик...
Жизнь кипела на параллельной Сущевке Новослободской. Многолюдные тротуары, булочная, парикмахерская, магазины, назойливо звенящий трамвай… Позже трамвай перенесут на Сущевку, уступая на Новослободской место величественному троллейбусу.

Дошколенок.
Саша обитал в самом начале Сущевки, на первом этаже неказистого домика, в незапамятные времена покрашенного белой, видимо, краской, напоминавшей о себе теперь лишь слабо различимыми пятнами. Я жил в середине улицы, на полпути к Палихе. В знаменитом своей шпаной Курниковском доме. Некогда предназначавшийся трамвайщикам, он состоял из множества корпусов и флигелей. Двор его имел выходы на Сущевскую – ворота для автомобилей и на Новослободскую – только для пешеходов.
Я неспроста описываю этот уголок, этот, как сказали бы сейчас, микрорайон. Он еще напомнит о себе и не только в связи со школьными годами; о нем пойдет речь, когда наступит черед вспоминать более поздние времена.

Школьник с Сущевки.
А тогда, идучи в школу, я стучал по дороге в окно грязно-белого домишки. Спустя минуту появлялся Саша с ободранным портфелем, и мы, минуя церковь Святого Пимена (ее не закрывали, в ней служили «обновленцы», возглавляемые отцом А. Введенским; потом с ними покончат, а Введенский сгинет), выходили на Краснопролетарскую. Здесь, в клубе «Рот-фронт» играла труппа заслуженного артиста республики Блюменталь-Тамарина. В войну он уйдет к немцам, и его, перебежчика, их радио будет ласково именовать «любимцем публики». «Любимец публики» сыпал низкопробными анекдотами про сожительниц Кагановича. В довоенное же время в клубе «Рот-фронт» шла некогда известная драма Дюма «Кин. Гений или беспутство», не вызывавшая зрительского ажиотажа несмотря на старания упомянутого «любимца».

Выпускник.
По крайней мере, возвращаясь из школы, мы с Сашей не наблюдали очередей у клубных касс. Зато тянулись очереди в магазин против Сашиного дома. В продмаги на Новослободской, где главным был «Курниковский». Его название, выложенное цветной плиткой на торцовой стене, сохраняется и поныне.
Саша Родин, как и я, как и все мы, жил, разумеется, в коммуналке. В комнате, разгороженной на две части. Мама, Розалия Наумовна, встречала нас приветливо, зато отец – Исидор Михайлович – едва замечал. Он носил черную шляпу, из-под которой ниспадали густые волосы, и произносил строгим голосом, ни к кому непосредственно не обращаясь: «Газеты сегодняшние не развернуты. Из этого следует вывод: их никто не читал». Присутствующие, в том числе и я, виновато молчали.
Саша давал понять, что речь идет всякий раз о коротенькой заметке, где сообщалось: на таком-то спектакле присутствовал «лично товарищ Сталин». Подчеркивалось: «Спектакль прошел с успехом». Или «с большим успехом». Или «был встречен овациями». Вот к этим-то судьбоносным формулировкам в какой-то мере и бывал причастен Исидор Михайлович. Впрочем, гораздо позже мне предстояло убедиться, что тогдашние мои представления о Сашином отце не совсем соответствовали действительности…
Мы учились в одной школе, но в разных классах. Саша был годом моложе, годом позже окончил десятилетку и тут жe загремел в армию. Два года ушли у меня на освоение премудростей на младших курсах Института истории, философии и литературы (ныне он пышно именуется «Лицеем в Сокольниках». В суровые предвоенные времена до такой дурости не додумались: «лицей» базировался на идеях марксизма-ленинизма и возглавлялся едва ли не сподвижницей Ильича). Саша, знакомый с кавалерией по кинофильму «Чапаев», в тот же период овладевал мастерством конной езды. Овладевал, насколько могу судить, вполне успешно. Равно как и радиосвязью.

Старший сержант (второй слева).
Когда спустя несколько лет мы встретились в Карпатах, он уже проделал верхом большую часть своего ратного пути протяженностью в три тысячи километров, был несколько раз ранен, удостоился солдатского ордена Славы. Встреча пришлась на один из тяжких этапов войны. Фортуна тогда вроде бы являла благосклонность к нашей стороне. Но общая благосклонность не исключала неудач, все новых и новых потерь. И так было до самого конца. Мой лучший фронтовой друг Бениамин Мартиросов получил тяжелое черепное ранение в апреле сорок пятого...
С Мартиросовым связан единственный случай, когда я на фронте столкнулся с шовинизмом и за «армяшку», брошенного Бене, нарушив собственные заповеди, дал волю рукам. Не испытав ни удовлетворения, ни раскаяния...
Нам с Сашей суждено было встретиться в безотрадных местах. В суровой военной прозе Виктора Астафьева страницы о боях за Дуклинский перевал едва ли не самые мрачные.
Наступать в горах, где противнику принадлежат господствующие высоты, – гиблое дело. Впрочем, на войне многие дела – гиблые. Однако от них никуда не деться.
Когда Саша Родин, согнувшись, встал в дверях нашей землянки на склонах Дукли, меня окликнул Мартиросов: «Иди сюда! Тебя спрашивает школьный приятель...» И повертел пальцем у виска, давая понять, что спрашивающий, разумеется, с «приветом»: какие еще одноклассники в Карпатах!
Это и впрямь было абсолютно неправдоподобно. Встретить на фронте земляка, даже москвича – чудо! Куда вероятнее казалась встреча с осколком, с пулей.
Помимо всех прочих тягот, в какие-то часы и минуты каждого из нас томила тоска по родному городу, своей улице. Не говорю уж о постоянной тоске по дому, близким...
Беня ошибся с диагнозом. Старший сержант Александр Родин, явив свойственное ему упорство, с помощью полевой почты отыскал нашу дивизию. Вместе с другими частями и соединениями она обеспечивала проход для кавалерийского корпуса, прорвавшегося на выручку Словацкому восстанию, поднятому, видно, без согласования с нашим командованием. Последнему ничего и не оставалось, кроме как направить на помощь повстанцам один из лучших кавалерийских корпусов. Только ли его?
На фронте высокая цена далеко не всегда гарантирует успех. Даже когда война клонится к победному завершению. Потрепанные, обескровленные кавалерийские эскадроны не солоно хлебавши возвращались уже печально знакомым им коридором в лощине. Вот тут-то и предстал передо мной приятель с Cyщевки. Собственной персоной.
Мне не под силу передать чувства, овладевшие нами. Переписка велась от случая к случаю. Правда, мы знали о ранениях друг друга. Кое-что было известно о родителях. Но и только. Свершилось немыслимое. Благодаря действительно уникальной Сашиной настойчивости. И, конечно, явному уважению к нему его непосредственных командиров, разрешивших поиски.
Я бы слукавил, пытаясь восстановить наши разговоры в те бессонные сутки, когда нас старались не тревожить, оставить наедине. Но память об этой фантастической встрече на влажных от дождей и крови горных склонах осталась в душе. Как об одном из чудес войны.
Следующая непредвиденная встреча состоялась уже в послевоенном Ивано-Франковске (Станиславе). Саша возвращался, коли не ошибаюсь, из госпиталя в свой кавалерийский корпус. Он знал уже не только номер полевой почты, но и полное название предназначенной к расформированию дивизии, где я служил. Вопреки надеждам расформирование не означало для меня демобилизации. Тем паче, что Прикарпатский округ задействовали в не утихающих стычках с украинской повстанческой армией (УПА). Эта война, разумеется, несравнима с той, что велась против вермахта. УПА численно и технически уступала нам. Зато пользовалась явной поддержкой населения.
Ежедневные, под звуки Шопена, траурные шествия по улице, поспешно переименованной в Радзяньскую (интересно, как она сейчас называется?), не позволяли забыть о стычках и засадах на лесистых склонах Карпат. Не Дукля, конечно, однако тоже крови хватало...
Я уже ходил в небольших начальниках и с Сашиного согласия отправился в штаб, прихватив его документы. Охотники служить в прикарпатских гарнизонах встречались редко, и приятель-штабник на ходу бросил: «Да ради Б-га! Забирай себе школьного друга! Будете сообща вспоминать таблицу умножения».
Без малого два года мы провели вместе. При посторонних Саша соблюдал субординацию: «Товарищ капитан, разрешите обратиться!» Без посторонних мы, случалось, собачились, как в школьные времена.
Вынужден признаться, я злоупотреблял служебным положением, посылая Сашу на рынок – то наручные часы продать, то буханку хлеба. «А сам не можешь?» – естественно, огрызался старший сержант. Я смущенно оправдывался, ссылаясь на офицерские погоны. Никакой штатской одежонки ни у меня, ни у Саши не водилось. Мы оба относились к убежденным противникам всевозможных «трофеев».
Армейская субординация не отразилась на наших отношениях. На них отразится мирная московская жизнь. Вопреки желанию и бесчисленным рапортам я оставался офицером; стало быть, судьба моя всякий раз решалась кем-то надо мной. То есть командованием.
Саша, расставшись наконец с армейским обмундированием, учился в техническом институте. Женился; кажется, не очень удачно. Впрочем, эти его годы мне мало известны. Мы встречались все реже и реже. Сашины литературные опыты мне не шибко нравились. Он обижался. Но и в редакциях его не очень-то привечали. Природная его настойчивость (состоялась ли бы без нее наша встреча на Дукле?) частенько бывала не по душе редакционным сотрудникам. Даже если автору везло, и рукопись попадала в разряд тех, что можно «вытянуть». А над текстом он готов был работать до бесконечности.

После награждения медалью «За отвагу» (справа).
Поглощенный собственными литературными делами, я не проявлял к Саше внимания, на какое он мог рассчитывать. Мои самооправдания не отличались разнообразием. Почему, твердил я себе, инженер должен вдруг стать писателем? Не блажь ли это?
Но он им стал. И всего менее благодаря мне. А в том, что стал, сейчас нет сомнений. Эпизодические публикации в газетах и журналах его не удовлетворяли. Даже когда время от времени им сопутствовали передачи по радио, переводы на иностранные языки. Он жил с истязающим душу чувством неудовлетворенности, и оно определяло все его существование. Хотя одной книги «Три тысячи километров в седле», выпущенной в 2000 году, вполне, казалось, могло хватить для внутреннего умиротворения, для сознания исполненного долга.
Мне ведь известны литераторы, давно состоящие в Союзе писателей, выпустившие две-три заурядные книжицы и на этом основании доживающие свой век с горделивой уверенностью в значительности собственного вклада в отечественную литературу.
Между тем война, воссозданная Александром Родиным, не только не похожа на войну в других, пускай более талантливых книгах. В этой книге, не выпячивая себя, постоянно присутствует, наблюдая и по-своему размышляя, автор.
Еще в пору войны, когда каждый ее участник жил нехитрой мечтой: «Если смерти, то мгновенной, если раны – небольшой», жил, однако, трезво сознавая зыбкость своей надежды, Саша хотел передать личное восприятие сущего, человеческих отношений на грани жизни и смерти. В каждой войне они отмечены своей печатью. Он вел беспощадно откровенный дневник. Эти записи давно минувших лет, осмысленные нынешним взглядом на вещи, частично обновлены, но отнюдь не приглажены. Дистанция во времени не облегчает постижения фронтового прошлого. Современный же читатель очень далек от него. Тем не менее, вместо того чтобы упростить повествование, автор доказывает необходимость скрупулезного исследования, обязательность деталей, кому-то кажущихся второстепенными. Того, к примеру, как были важны подробности боевого приказа или линии на топографической карте.
«Я понимаю, что перечисление всех населенных пунктов, через которые проходила наша батарея, и указание точных дат может читателю показаться излишним, но книга эта – в какой-то степени исторический документ, здесь все точно, и достоверные сведения о каких-то эпизодах той войны могут пригодиться будущему историку. Возможно также, что некоторые из приведенных в этих записках данных помогут молодым энтузиастам, которые занимаются благородным делом, – восстанавливают память о людях, погибших в годы Великой Отечественной войны...»
Кому-то это, действительно, может показаться наивным. Пускай. Не беда. Автор решает задачи, поставленные перед собой в ту пору, когда он вышел из мальчишеского возраста и стал солдатом, сознавая – быть может, иногда безотчетно – меру собственной ответственности. Увеличивая, если можно так выразиться, эту меру дневником. (Легко ли его вести в седле? В боевой обстановке? Сберечь в госпитале? В вечных фронтовых передрягах?) Щепетильность, честность, постоянная жажда объективности побуждают Родина, не довольствуясь собственными записками, цитировать дневник своего сослуживца и друга – сержанта Николая Нестерова.
Об этом предупреждает специальная информация, предшествующая тексту. Кроме того, фотография двух сержантов-конников украшает обложку этой не совсем обычной книги, подчеркивая стремление авторов к документальности.
Не пытаясь подробно анализировать «Тр
и тысячи километров в седле», отмечу одну из особенностей книги, напрямую не связанную, видимо, с характером автора, но все-таки ему присущую. Даже если она не всегда бросалась в глаза.

Студент (третий слева во втором ряду).
Саша Родин не принадлежал к добрякам, милягам и далеко не всегда склонялся к компромиссам. По крайней мере в годы, когда мы постоянно виделись. Тем дороже его априорное доброжелательство не только к товарищам по оружию, к однополчанам, но и к людям совсем другой жизни, к обитателям мест, избавленных нашими войсками от немецкого фашизма. В частности, к полякам. С которыми, сужу по собственному опыту, не всегда легко обрести общий язык. И не только из-за языкового барьера.
Если наступят времена оправданного внимания к не столь отдаленному прошлому и будет составлена библиотека художественной литературы о Великой Отечественной войне, не теряю надежды, что книга Александра Родина «Три тысячи километров в седле» войдет в состав этой библиотеки, заняв должное место.
Однако о писательских возможностях Родина надо судить, беря также в расчет диапазон его творчества, удивительную широту и дерзость замыслов. Тщательность освоения своеобразного и многопланового материала.
Повесть «Я убил Лермонтова» – откровенная, изобретательно выполненная мистификация в форме исповеди неудачливого сочинителя, мучимого славой погибшего от его пули великого поэта. Какая же работа проделана Родиным ради этой тонкой и умной игры с читателем, где претендующий едва не на положительную роль повествователь-убийца действительно выглядит страдальцем!
Не менее неожиданна для бывшего кавалериста с Сущевки и повесть «Вопль», снабженная подзаголовком «О последних мгновениях земной жизни Иисуса». Не стремясь потрафить новым (или старым) воззрениям, А. Родин остается сыном своего времени, чутким к его трагедиям и противоречиям.
«Но мог ли Иисус предположить, что два тысячелетия спустя стремление искать виновных вовне приведет к тому, что вину за неумение наладить свою жизнь, неверный выбор правителей, люди не просто будут сваливать на врагов внешних и врагов внутренних, но прежде всего на инородцев, в том числе на относительно небольшую группу людей иудейской крови, прикрываясь при этом необходимостью защищать христианство и начисто забыв о том, что и мать Иисуса, и Иосиф, и апостолы были по крови иудеями...»
Сам Родин не был религиозен, но достаточно определенно чувствовал, кто он по крови, и никогда не пытался это скрыть. Правда, надо заметить, что на войне в его конном корпусе, как, впрочем, и в моей пехотной дивизии, редко кто этим интересовался. Моей дивизией до момента гибели командовал русский генерал, начальником штаба был еврей, начальником политотдела – грузин. Каждый из троих был на своем месте...
Возвращаясь к Родину, напомню о постоянной его подготовительной работе к прозаическим сочинениям, не предусмотренной, естественно, техническим вузом, где он получил высшее образование. Он изучал Евангелие и Меня, Аверинцева и Ренана, вживаясь в необычайно сложный образ и не стремясь его упростить. Ему пригодился и личный жизненный опыт, накопленный годами далеко не всегда отрадной жизни. Личный опыт требуется писателю постоянно. Но всякий раз на свой лад. У Родина наиболее непосредственно он ощутим в мемуарной повести «Ура!» (Детство, отрочество, старость)». Всего сильнее в этой повести меня поразила первая главка – «На плацу».
Во время занятий по строевой подготовке, когда всего важнее поднять ногу на тридцать сантиметров от земли, оттягивая носок до боли в подъеме, дневальный, нарушив отработанный порядок, приносит весть: «Хлопцы, война!» В ответ ему Александр Родин и Николай (видимо, Нестеров) кричат: «Ура-a-a!»
Я усомнился бы в достоверности прочитанного, если бы когда-то не слышал о том же самом от моего ленинградского друга Александра Володина. Ленинградцем он стал не от хорошей жизни. В Москве в 1949 году после ГИТИСа для бывшего солдата Лифшица, раненного на передовой, места не нашлось. В колыбели революции сулили редакционную должностишку. Вот и перебрался, спустя несколько лет став едва ли не самым крупным драматургом России второй половины XX века. Его «Фабричная девчонка» победно прошла по подмосткам страны.

Инженер.
Однажды Саша, теперь уже Володин, рассказал мне, как в сорок первом, услышав о начале войны, он, успевший отбарабанить два года в армии, завопил: «Ура!» Мне не поверилось. И вдруг у другого Александра встречаю ту же реакцию! До чего же обрыдли мальчишкам армейская рутина, шагистика, вечные наряды, если они встретили победным кличем страшное известие, даже не подумав, что война, помимо всего прочего, чревата лично для них еще и физическими страданиями.
Родин не жаловался на дискриминацию. Служебные обязанности, насколько мне дано судить, его не слишком тяготили. Он с военных лет жил своим творчеством, мучительно переживая отсутствие успеха, известности. На мой взгляд, тут давала себя знать какая-то аномалия. Точнее – вечная неудовлетворенность, когда завершение работы пугает отсутствием новых замыслов.
Сама разноплановость его произведений – по темам, времени действия – помимо всего прочего, отражает душевную тревогу, не оставлявшую Родина и тогда, когда вроде бы позволительно было перевести дыхание.
В мемуарных записках «Ура!» Родин вспоминает наше детство: на экране – «Чапаев», в Колонном зале Дома Союзов – торжественное приветствие московских пионеров конгрессу КИМ. Наши надежды, иллюзии. Наша наивность, затянувшаяся инфантильность, резко оборванная июнем сорок первого...
Я не представлял себе, какую роль в ранние годы сыграл для Саши отец. Он принадлежал, надо думать, к очень деятельным натурам. Общался с многими видными людьми того времени. Его активность простиралась далеко, он даже состоял членом райкома ВКП(б). Впрочем, помогая другим, всего менее заботился о собственном благе. Его ценили многие. Особенно представительницы слабого пола.
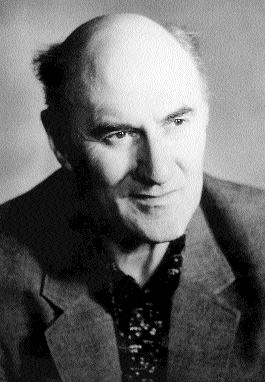
Писатель.
Сашин папа относился к «ходокам». Не к тем, что изображены на картине беседующими с Ильичем, а к тем, кто не ночует дома. Сашину маму страшно угнетало это свойство мужа. Самого же Сашу терзали другие проблемы: дружба с гитлеровской Германией, социальное неравенство и т.д.
«...Сообщение дневального о войне позволяло оттянуть решение этих вопросов на неопределенный срок». Получается, что «Ура!» вызвано не только солдатской шагистикой и нарядами, как мне подумалось, когда, читая Родина, я вспомнил Александра Володина…
С книгами Саши я познакомился отнюдь не в рукописях. Мы не виделись много лет, и я умудрился почти ничего о нем не знать. Моя вина тем более велика, что он издали следил за мной, читал мои статьи и книги, имел о них свое мнение, был в курсе многих событий моего бытия.
Однако что проку задним числом костить себя? В свое оправдание – не слишком весомое – скажу: в какой-то миг, словно током ударенный, я позвонил ему. Мы встретились, провели вместе целый день. Но замечу: встретились все же как давние друзья, дорожившие прежней близостью и готовые ее продолжить. Заслуга в том прежде всего Сашина. Из его сбивчивых рассказов я узнал, словно о чем-то второстепенном, что у него был рак горла. Он сообщил об этом, как о гриппе, назидательно добавив, что ныне рак излечим, лично он, переболев, говорит совершенно нормально, без каких-либо трубок. Я имею возможность в том удостовериться...
Тема эта его не занимала, он не собирался ее развивать. Нам надлежало говорить о его прозе. О надеждах, исканиях. Вернувшись домой, я сел за его книги, радуясь Сашиным успехам и опять-таки ощущая собственную вину. По телефону я делился впечатлениями, говорил о том, что понравилось больше остального...
Было решено: когда прочитаю все, мы снова повидаемся, поговорим. Оба верили в эту встречу, в эту беседу. А почему нет? Всего более он дорожил своими рассказами. Имел для того основания. Рассказы вышли из-под пера человека, прожившего жизнь, исполненную трудностей, невзгод, лишений. А это значило, и не в последнюю очередь, что автор умел понимать так называемого простого смертного, чьи чувства и поступки на деле не столь уж и просты, как может показаться при беглом взгляде, при высокомерном убеждении, будто перед тобой всего лишь «колесико», «винтик». Напрямую этого уже вроде не говорят, но от этого не избавились…
В родинских рассказах обстоятельства жизни зачастую таковы, что заурядные, на первый взгляд, события, переживания, взаимоотношения воспринимаются как нечто неожиданное, исключительное. Тут не тяга к оригинальности, а умение высветить вещи, словно бы и не поддающиеся истолкованию.
Простоватый на вид работяга Иван способен понимать и чувствовать нечто такое, что недоступно его Елизавете, читающей Хемингуэя. И вот однажды он не хочет, он больше не спешит идти к ней, единственной и долгожданной («Летний зной»). На том и обрывается рассказ, вернее обрывается на фразе «о каком-то безнадежно чистом небе». Она как бы не относится к Елизавете и Ивану. Но совсем не случайна в тексте... В простой как-будто жизни родинских героев далеко не все выражено словами. И само настроение, доступно далеко не каждому читателю.
«...Завтра, быть может, Сережа сделает мне предложение. А, может быть, и не сделает. Все равно – да здравствует завтра!»
Так завершается четырехстраничный рассказ «Цветы», пронизанный трогательной девичьей верой в «завтра». Верой, ценимой, но вряд ли разделяемой автором.
Это – не искусственная недосказанность; просто герои Родина живут, далеко не всегда зная, что их ждет, но исподволь почти постоянно готовые к чему угодно. Вот и Лариса («Море, солнце, любовь») поняла, что ее случайный курортный знакомый – «хороший человек». К сожалению, они «не успели толком поговорить». Но она упрямо будет ждать обещанного телефонного звонка. Ждать – волнуясь и уповая на лучшее. Не зная – дождется ли.
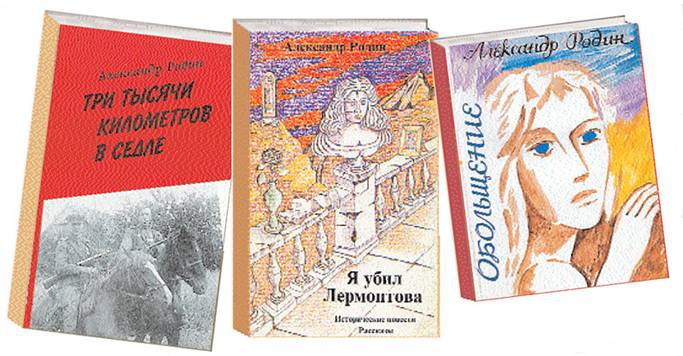
Это не головоломка, придуманная, чтобы заманить читателя. Это, если угодно, настойчивое приглашение к размышлениям над «банальными» фактами, над встречами, что проходят косым дождем. А жаль! Они раскрывают жизнь сплошь и рядом с интересной, с примечательной стороны, – не менее интересной, нежели, скажем, детективный сюжет или сюжет о сексуальных похождениях. Кто-то вкалывает в цеху, кто-то стоит за прилавком, а талантливого, но житейски непрактичного математика Валерию Марковну не занимают интриги начальства («Наша Валерия»). Героиня взирает на них словно бы со стороны, но коль ее «тематика не устраивает», пренебрегает и службой, и деньгами.
Авторское предпочтение мимолетному, не бросающемуся в глаза вовсе не означает безразличия к трагической стороне действительности. Это А. Родин подтвердил лучшим, на мой взгляд, рассказом «Ночной разговор на даче Сталина».
Автомобиль, везущий Никитину из Бутырок на «ближнюю» дачу, где Сталин томится бессонницей и желает побеседовать с арестованной, с которой некогда случайно свел знакомство, вначале точно повторяет маршрут, прекрасно известный нам с Сашей. Мы неоднократно проделывали его, бродя по Сущевке и Новослободской. Правда, мы расхаживали там днем, а машина с Никитиной выехала из ворот Бутырок в ночь на 16 марта 1936 года, перед самым рассветом. Миновав Курниковский дом и проехав немного вперед, она уперлась в канаву, – рабочие ремонтировали прорвавшуюся трубу, – и, круто развернувшись, через Палиху выскочила на Сущевскую.
Заключенная Никитина ахнула. Сущевская была улицей ее детства и юности. Она помнила, как школьницей просиживала все вечера в расположенной там Суриковской читальне. Мы с Сашей делали то же самое. Короче говоря, она ехала мимо своего дома, где жила, как и Родины, в коммуналке на первом этаже.
На даче происходит вполне доверительный разговор, Никитина достаточно откровенно излагает свои взгляды вождю, отыскавшему наконец, чем заполнить часы бессонницы. Впрочем, ничего крамольного она не провозглашает и не думает. Ее бросили в тюрьму без всякой вины.
Завершив разговор и почаевничав, Сталин вежливо благодарит гостью за визит. В тоне непринужденной беседы он делится кое-какими соображениями и с бригадным комиссаром, сопровождавшим зечку. С привычной цепкостью уловив мысль вождя, комиссар по возвращении в Бутырки приказывает незамедлительно расстрелять Никитину. Она действительно ни о чем предосудительном не помышляла. Но Сталин не исключал: может в дальнейшем и помыслить.
«...Часов до двух вождь спал хорошо, проснулся свеженький, в этот день ему предстояло работать над проектом новой конституции, которая потом будет названа сталинской».
Расстреляют также мужа Никитиной, обрекая на сиротство и дискриминацию их сына.
Саша держал в памяти не только маршруты школьных лет. Он помнил время и понимал, что, подобно Никитиной, могли бросить в тюрьму его отца – активного партийца. Сколько машин с арестованными промчалось по нашим улицам, примыкавшим к Бутыркам!
Рассказ этот принадлежит писателю-профессионалу, доказавшему собственный талант, собственное мастерство. Но поиски своего места в литературе этим не исчерпывались. Родин собирался продолжать их еще долго...
Я предполагал, что о них-то и пойдет разговор, когда мы, как намечалось, встретимся. Только запланированной встрече не суждено было состояться...
Сперва он не надолго попал в больницу, а потом рак, словно наверстывая упущенное, стремительно довершил свое дело.
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
E-mail: lechaim@lechaim.ru