Улитка с еврейскими рожками
Грета Ионкис
Гюнтер Грасс – последний лауреат Нобелевской премии минувшего столетия. К его 75-летию издательство Бертельсманн успело выпустить биографию писателя. Михаэль Юргс назвал книгу символично: «Гражданин Грасс». Бывают моменты, когда завещание – «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» – становится вновь актуальным. Редакция журнала «Лехаим» приветствует гражданское мужество юбиляра и поздравляет его.
Когда закончилась война, Германия оказалась в прямом смысле поверженной, лежала в руинах, и тогда заговорило поколение «вернувшихся». В литературе обрел права гражданства «маленький человек», «человек с тихим голосом». Он достойно противостоял пафосной героике, грандиозности «триумфального» искусства третьего рейха. Рассказы Борхерта, первые повести Бёлля, книги членов «Группы 47» погружали в мир трагический, представляли героев одиноких, отчаявшихся, потерявших все в кровавой мясорубке войны. Они взывали к состраданию, к человечности, были резко критичны по отношению к нацизму, и это дало основание говорить о расчете с прошлым.
Наступил 1959 год. Руины в основном были расчищены, но Германия бесповоротно разделена: 1990 год, крушение подсоветской ГДР еще и не снились. На востоке, поспешая, куют социализм советского образца. Западные немцы готовятся пережить «экономическое чудо». И вдруг почти никому не известный Гюнтер Грасс, выкормыш «Группы 47», преподносит сюрприз – «Жестяной барабан». Дробь и треск грассовского барабана повергли нацию в шок. И кто барабанит?! Карлик, зловредный гном – не иначе! Да это совсем не тот «маленький человек», к которому уже привыкли, которого приняли. А не пародия ли это на Гитлера, ведь он еще совсем недавно объявлял себя «великим барабанщиком»? Впрочем, с фюрером герою Грасса явно не по пути. Но кто он, этот Оскар Мацерат, сознательно прекративший расти в возрасте трех лет, но интеллектом превосходящий взрослых и получивший над ними загадочную власть? И что означают эти фантасмагории, нелепости и абсурд под маской реальности?
Но не только загадки и насмешливая манера шокировали немецкое общество. Грасс замахнулся на народ. В истории такое бывало: подобное позволял себе еще Гете, имя которого часто всплывает в грассовском романе. Но то, что позволено Олимпийцу, то бишь Юпитеру, не позволено безвестному быку. Нацистские кумиры были повержены, но молодой писатель добирался до тех, чья верноподданническая психология и шкурничество, чья серость и скудость мышления способствовали приходу нацистов к власти. Грасс ворошил обывательские гнезда. Он был на стороне тех, кто признал вину немцев. Тезис коллективной вины сформулировал в 1945 году теолог Карл Барт. Его поддержал философ Карл Ясперс, который напомнил своим согражданам: «Мы не вышли на улицы, когда уводили наших еврейских друзей; мы не вопили, пока сами не оказались уничтоженными. Мы предпочли остаться в живых на том ничтожном и едва ли логичном основании, что наша смерть никому не поможет... Мы виновны в том, что живем».
Грасс стал раскапывать корни этой вины. Как рушатся стекла от пронзительного голоса Оскара Мацерата, так повергаются в романе все мыслимые авторитеты – семьи, церкви, государства. В осколки разлетается миф о немецких добродетелях – честности, верности и порядочности как основе национального характера. Это было отрицание тотальное – кстати, излюбленное слово из языка третьего рейха, и это потрясло читателя. Роман прозвучал «насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом». Насмешкой, впрочем, не только горькой, но и издевательской. Шоковую терапию Грасса смогли понять, оценить и тем более принять немногие. Разразился скандал, последовало даже судебное разбирательство. «Осквернитель святынь, нигилист, порнограф» – таков был «общий глас». Его отголоски слышны и поныне. Когда весь мир поздравлял писателя с присуждением ему Нобелевской премии в 1999 году, комментатор газеты «Die Welt» назвал решение Шведской Академии «эпохальным недоразумением» и предостерег немцев от «данайцев, дары приносящих».

«Осквернитель святынь, нигилист, порнограф» – таков был
«общий глас». Его отголоски слышны и поныне. Когда весь мир поздравлял писателя с присуждением ему Нобелевской премии в 1999 году, комментатор газеты «Die Welt» назвал решение Шведской Академии «эпохальным недоразумением» и предостерег немцев от «данайцев,
дары приносящих».
Национальная самокритика Грасса п
ришлась не по душе немецкому большинству. Лишь единицы поначалу хотели очищения через признание вины и покаяние. Одно дело в храме по воскресеньям бить себя в грудь, повторяя затверженные с детства слова: «Mea culpa! Mea maxima culpa!», а другое – честно признать и свою ответственность за преступления национал-социализма.
Еврейская тема четко обозначена в «Жестяном барабане». Она связана напрямую лишь с двумя персонажами: Сигизмундом Маркусом, владельцем магазинчика игрушек, и с господином Файнгольдом, узником Треблинки. Но эта тема звучит в подтексте: срабатывает принцип айсберга.
Поначалу кажется, будто второстепенный герой Маркус – значительное лицо лишь в глазах маленького Мацерата, ибо он – хозяин жестяных барабанов, без которых малышу жизнь не в жизнь. Но вот выясняется, что тихий еврей влюблен в мать Оскара, причем настолько, что даже окрестился на случай, если она захочет покинуть с ним город перед вторжением немцев. В том, что войска войдут в Вольный город Данциг, Маркус не сомневается. Стоя на коленях, сжимая в руках обе руки матушки Оскара и плача при том, он заклинает: «Поедем с вами в Лондон, фрау Агнес, у меня есть там свои люди, и есть документы, если только пожелаете уехать, а если вы не хотите с Маркусом, потому что его презираете, ну тогда презирайте... И Оскара мы тоже возьмем в Лондон, пусть как принц там живет, как принц!» Агнес не примет предложения не потому, что презирает Маркуса, а из-за того, что душой и телом принадлежит другому. Не мужу, Мацерату, нет, а возлюбленному своему, Яну Бронски. Маркус знает об этой многолетней связи, как знает о ней маленький Оскар. Оба принимают этот союз как данность. Преданная безответная любовь Маркуса к красавице Агнес придает ему нечто от Деточкина Достоевского или от несчастного Желткова из «Гранатового браслета».
Так бы и остался этот невзрачный и грустный, не включенный в любовный треугольник еврей забавной фигурой, если бы не события, которые для него завершились одним ноябрьским днем 1938 года. Но до этого дня ему довелось пережить смерть Агнес. Он идет на кладбище проводить ее в последний путь, но его оттирают от гроба и грубо изгоняют. Оскар, заметивший, как выпроваживали Маркуса, бежит за ним.
«Оскархен! – удивился Маркус. – Скажи на милость, что они хотят от Маркуса? Чего он им такого сделал, почему они так делают?
Я не знал, что сделал Маркус, я взял его за потную руку, провел его через чугунные распахнутые ворота, и оба мы, хранитель моих барабанов и я, возможно – его барабанщик, натолкнулись на Лео Дурачка, который подобно нам верил в существование рая».
Поскольку любая деталь у художника значима, обратите внимание на эту троицу за кладбищенскими воротами. В какую компанию включен на равных еврей Сигизмунд Маркус? В компанию городского юродивого и маленького шута – именно так воспринимают Оскара многие. И дурачок Лео, и карлик Оскар – не такие как все, они – изгои. Еврей Маркус – тоже изгой. Но вспомните традицию! Юродивые – своего рода святые, выступающие подчас как пророки: пушкинского Николку из «Бориса Годунова» все помнят. Шуты в средневековье пользовались при дворах привилегией – пусть в закамуфлированной форме, но говорить правду властителю. И в свете традиции образ Маркуса вырастает. Это уже не только маленький, обиженный и униженный человек, достойный жалости. Он предстает в ореоле особой святости. И Грасс недвусмысленно дает понять, кому он отдает предпочтение, на чьей стороне его маленький барабанщик.
Первым в немецкой литературе Грасс рассказал о так называемой «хрустальной ночи». В этот день по всей Германии и в Вольном городе Данциге горели синагоги. Писатель показал реакцию немецких обывателей на происходящее и резко осудил ее. Лавочник Мацерат отправился на трамвае поглазеть на зрелище, прихватив сынишку. «Перед дымящимися развалинами люди в форме и в штатском сносили в кучу священные предметы и диковинные ткани. Потом кучу подожгли, и лавочник, воспользовавшись случаем, отогрел свои пальцы и свои чувства над общедоступным огнем» (курсив мой. – Г.И.) Его сынишка тем временем поспешил к магазину игрушек, ибо судьба любимых бело-красных барабанов внушала ему опасения.
Тут вступают в действие особые художественные законы Грасса, по которым заурядный торговец игрушками превращается в персонаж сказочный, на что прямо указывает характерный зачин: «Давным-давно жил да был продавец игрушек, звали его Сигизмунд Маркус...» Однако законы жанра перестают действовать, когда в сказочный мир вламываются поджигатели в коричневой форме штурмовиков. Сказка избегает деталировки, а Грасс приводит впечатляющие, несмотря на их грубый прозаизм, детали: «Обмакнув кисточки в краску, они уже успели готическим шрифтом написать поперек витрины “еврейская свинья”, потом, возможно, недовольные своим почерком, выбили стекло витрины каблуками своих сапог, после чего о прозвище, которым они наградили Маркуса, можно было лишь догадываться. Пренебрегая дверью, они проникли в лавку через разбитую витрину и там на свой лад начали забавляться игрушками. ...Некоторые спустили штаны и навалили коричневые колобашки, в которых можно было увидеть непереваренный горох, на парусники, обезьян, играющих на скрипке, и на барабаны».
Хозяин лавки сумел уклониться от встречи с погромщиками, от их ярости. Он сидел у себя в конторке, недоступный для оскорблений. «Перед ним на письменном столе стоял стакан, который нестерпимая жажда заставила его выпить до дна именно в ту минуту, когда вскрикнувшая всеми осколками витрина его лавки вызвала сухость во рту». Маркус предвидел этот визит, он к нему подготовился.
Если самоубийство счесть за благо в свете еврейского исторического опыта той поры, то законы сказочного жанра сработали до конца: добро, если не победило зло, то не далось ему в руки. Быстрая смерть лучше поругания и длительных мук, а другого выбора у еврея Маркуса не было. Он ускользнул от мучителей в смерть. Естественно напрашивается вопрос: если смерть становится единственным выходом для человека, то какова жизнь? Сказка перерастает в трагедию.
Сказки, где рассказчик выступает как очевидец, заканчиваются одинаково: «И я там был, мед-пиво пил, по усам текло, да в рот не попало». А наш маленький свидетель, нахлебавшись горечи на чужом пиру, завершает свою сказку иначе: «Давным-давно жил торговец игрушками по имени Маркус, и он унес с собой все игрушки из этого мира». Со смертью Маркуса мир детства осиротел, опустел.
Покинув разгромленную лавку и мертвого волшебника (в глазах ребенка Маркус был хозяином волшебного царства игрушек), Оскар замечает на соседнем углу женщин из Армии Спасения, распевающих псалмы и раздающих прохожим душеспасительные брошюрки, взывающие к Вере, Надежде, Любви. После всего, что он увидел в лавке, сцена эта кажется ему нестерпимо фальшивой и лицемерной. Все христианские добродетели просто девальвировались в его глазах. Грасс обвиняет церковь в молчаливом пособничестве злодейству, хотя слова обвинения не произнесены. Он использует другие приемы.
Стремление Грасса к обобщениям и символизации соседствует в книге с трансформацией и переосмыслением привычных образов. История Маркуса становится как бы увертюрой к трагической истории еврейства, к Холокосту. Вроде бы автор не касается этой трагедии. Но он говорит о том, что сказочный Дед Мороз, в которого верил легковерный народ, на поверку оказался газовщиком. Поначалу он не отделяет себя от народа: «Я верил, что это пахнет орехами и миндалем, а на деле пахло газом». Газ, газовые камеры... Аллюзия из недавнего прошлого настолько прозрачна, что в комментариях не нуждается. Обмануться можно единожды. Но если «вера в Деда Мороза оборачивается верой в газовщика», то жить по такой вере преступно. Грасс создает гротескный образ своих соотечественников, избравших ныне, после войны, позицию страуса. Не забывайте, роман создавался в годы, когда о преступлениях нацизма помалкивали, чтобы немцы, не дай Б-г, не впали в депрессию под тяжестью вины. Даже термина «Холокост» в те годы еще не существовало. Грасс первым ударил в жестяной барабан памяти.
Глава с выразительным евангельским названием «Вера, надежда, любовь» начинается сказочным зачином: «Давным-давно жил да был один музыкант по имени Мейн, и он умел дивно играть на трубе». Далее мы узнаем, что в 1936 году Мейн вступил в конные части штурмовиков. Он не щадил сил в «хрустальную ночь», поджигая синагогу и поутру очищая заранее помеченные лавки. Пути Мейна и Маркуса пересеклись, пусть даже музыкант не громил лавку игрушек, но это он изгонял Маркуса с кладбища. Мейн – обобщенный образ рядового нациста, исполнителя. Как же он чувствует себя сегодня, в послевоенной Германии? Автор не уклоняется от ответа. Глава заканчивается недвусмысленно: «Давным-давно жил музыкант по имени Мейн, и если он не умер, то жив и по сей день и опять дивно играет на трубе». Сказочки бывают разные...
Что касается господина Файнгольда, этого полубезумного еврея из Галиции, который появляется в доме Мацератов в Данциге после того, как там побывали солдаты маршала Рокоссовского, то своими жестами и повадками он напоминает Оскару торговца игрушками, Сигизмунда Маркуса. Но живет этот человек совсем в ином мире. В Треблинке, где в газовнях погибла его жена Люба и шестеро детей, которых он то и дело призывает, с которыми беседует, все еще не в силах осознать, что их больше нет, он исполнял работу дезинфектора. «Мариус Файнгольд обрызгивал лизолом дороги в лагере, бараки, душевые, печи крематориев, узлы одежды, ожидающих, которые еще не приняли душ, лежащих, которые уже побывали в душе, все, что выходило из печей, все, что должно было попасть в печь».
Гюнтер Грасс не видел Треблинки. Но возможно, ему был знаком очерк Василия Гроссмана, который одним из первых оказался на месте событий. Очерк был напечатан в конце 1944 года в «Знамени». Это первое в мире детальное описание лагеря уничтожения.
«Весь процесс работы треблинского конвейера сводился к тому, что зверь отнимал у человека последовательно все, чем пользовался он от века по святому закону жизни. Сперва у человека отнимали свободу, дом, родину и везли на безымянный лесной пустырь. Потом у человека отнимали на вокзальной площади его вещи, письма, фотографии его близких. Затем за лагерной оградой у него отнимали мать, жену, ребенка. Потом у голого человека забирали документы, бросали их в костер: у человека отнято имя. Его вгоняли в коридор с низким каменным потолком – у него отняты небо, звезды, ветер, солнце».
Разумеется, Грасс не мог прочесть очерка Гроссмана в советском журнале, но он попал в «Черную книгу», набор которой на русском языке был в 1948 году уничтожен. Однако книга вышла в США на английском языке, и тысячи ее экземпляров, направленные на Нюрнбергский процесс, стали достоянием журналистов, там присутствовавших. Книга оказалась доступной заинтересованным лицам. Не исключено, что Грасс листал ее.
«Дневник улитки» (1972) отделяют от «Жестяного барабана» тринадцать лет. Годы эти были важны не только для мужания Грасса, но и для Запада в целом. В начале 60-х годов писатель включился в политическую борьбу и активно «барабанил» в пользу СПД и своего друга Вилли Брандта, немало способствуя их успеху. Появление национал-демократической партии, неонацистской по взглядам и составу руководства, настолько взволновало Грасса, что он отправил новому бундесканцлеру Курту Кизингеру публичное послание, в котором спрашивал: «Как молодежи в нашей стране найти аргументы против партии, умершей два десятилетия назад и воскресающей в виде НДПГ, если ваше бремя должности канцлера отягощено по-прежнему столь значительным грузом вашего прошлого?» Юрист Кизингер с 1933 по 1945 год состоял членом нацистской партии, что не помешало ему стать премьер-министром земли Баден-Вюртемберг, а затем получить высшую власть в стране. Беспокойство Грасса было вполне уместно. Ведь вторая половина 60-х – время студенческих бунтов в Европе. Восстав против отцов-конформистов, молодежь потребовала правды о преступном нацистском прошлом, не подозревая, насколько страшной она окажется. Вот тогда-то и заговорили о Холокосте.
Эта правда стала мощным толчком для возрождения еврейского национального самосознания. Еврейство было разобщенным. Правда о Холокосте на значительный период объединила и сплотила всех. А у немцев она пробудила чувство вины, которая сейчас, по прошествии времени, начала тяготить их. Причем, тяготить настолько, что писатель Мартин Вальзер, требовавший в 60-е годы расчета с прошлым во имя будущего Германии, на исходе века обвинил евреев в «инструментализации» Холокоста.
Тогда же, в конце 60-х – начале
70-х многие молодые немцы, желая искупить вину отцов, ехали в Израиль работать в кибуцах, помогать строить еврейское государство. Мне довелось здесь в Кёльне познакомиться с некоторыми из них. Именно на волне этих новых настроений президентом ФРГ в 1969 году смог стать социал-демократ д-р Хайнеман, который победил перевесом в шесть (!) голосов при пяти воздержавшихся.
Вдумайтесь в эти цифры! Грасс обеспокоен таким раскладом сил. По разумению писателя, война с наследием нацизма, с его пережитками должна быть продолжена. Но можно ли ожидать быстрой победы? В раздумьях над этим вопросом рождается книга «Дневник улитки». Доведется ли ему увидеть реальные перемены в сознании соотечественников? Или несколько поколений должны смениться, чтобы такие перемены наступили?
Вопросы, вопросы, вопросы... Из них и растет книга. В ней несколько сюжетных линий, ряд временны€х пластов. Рассказ об участии автора в предвыборной борьбе «прослоен» эпизодами из прошлого. Речь идет об уничтожении еврейской общины в родном городе Грасса Данциге. Обе истории он рассказывает своим детям параллельно. Воспоминания о гонимых евреях – не просто фон, они вторгаются в современность и звучат как предостережение. История ведь имеет обыкновение повторяться. «Нельзя допустить повторения преступного прошлого!» – эта мысль одушевляет книгу. Другой не менее важный вывод: уничтожая евреев, нацисты растлили душу народа, повязали немцев кровавой порукой. Все в мире взаимосвязано. События минувшего эхом отзываются в настоящем.
Откровенно публицистические размышления о нашем переходном времени ведут Грасса вглубь истории, в эпоху Лютера и Дюрера: она тоже была временем перехода – от средневековья к буржуазному миропорядку. Вглядываясь в гравюру по меди Дюрера «Меланхолия» (1514), Грасс находит ее удивительно современной. Он приходит к заключению, что Меланхолия есть выражение нового явления – застоя в прогрессе. Не нужно рассматривать ее как явление исключительно негативное. Подчас она необходима.
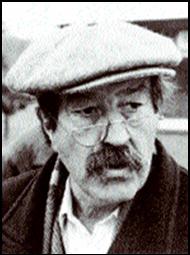
Правда о Холокосте
на значительный период объединила и сплотила всех. А у немцев она пробудила чувство вины, которая сейчас, по прошествии времени, начала тяготить их. Причем, тяготить настолько, что писатель Мартин Вальзер, требовавший
в 60-е годы расчета с прошлым во имя будущего Германии, на исходе века обвинил евреев в «инструментализации» Холокоста.
Дюрер видел пределы своего времени, видел, как нарождается новое, пока еще аморфное, его угнетали слабость и бессилие человеческой мысли. И Дюрер, и гуманисты, сознавая свою беспомощность, нашли прибежище в скрытной Меланхолии. «Застой в прогрессе. Колебания и сомнения перед новым шагом. Мысли о мыслях, пока в осадок не выпадет лишь сомнение. Познание, порождающее отвращение. Все это верно и для нашего времени».
В наши дни, когда Меланхолия разлита во всем, Грасс обнадеживает читателя открытием, к которому пришел: прогресс меряется улиточной мерой. Он понял это, когда в Германии в 1968 году начался процесс переоценки прошлого. Он протекал бурно и принимал подчас неожиданные формы, вплоть до создания ультралевых террористических организаций, державших в страхе и напряжении весь западный мир. И тут завзятый нигилист Грасс неожиданно проявился как моралист. Умиротворяющий дух Гете перевесил в художнике барочное буйство. Выступив против экстремизма и чрезвычайщины, Грасс вступил в нелегкий спор с молодым поколением в защиту реформаторских идей. Тогда и возник в его творчестве (Грасс еще и рисует) образ улитки и парадоксальное убеждение: «Улитка – это прогресс». Не верьте в спасительность скачков-прыжков, в резкие повороты и революции, полагайтесь на улитку: она движется медленно, но неуклонно.
Автор, заявивший о себе: «Я – штатская, ставшая человеком улитка», находит, что евреи, ведущие счет своей истории на тысячелетия, родственны улиткам. «За рассеянными по свету евреями признается право на Меланхолию как на нечто врожденное или – со времени разрушения Иерусалима – как на их роковое предназначение». Их присутствие в книге Грасса органично.
Рассказ об уничтожении еврейской общины Данцига начинается со статистики. Согласно переписи 1929 года здесь проживали 10448 евреев, при том что в городе было 400 тысяч населения. Начиная с 1930 года, демонстрации и митинги НСРПГ (национал-социалистической рабочей партии Германии) повсеместно проходили под девизом: «Евреи – наше несчастье!»
«Поскольку каждый боится несчастья и хотел бы его избежать, всяк рад услышать имя несчастья, узнать, наконец, в чем причина всего этого вздорожания, безработицы, нехватки жилья». Поэтому лозунг «Евреи – наше несчастье!» не был привязан к какому-то конкретному городу, лозунг был общегерманский.
«В Клеве, нижнерейнском городке, а также в соседних общинах Калькар, Гох и Удем в 1933 году жили объединенные в синагогальной общине Клеве 352 еврея. Столько несчастья граждане города не хотели терпеть».
Скупо, пунктирно и одновременно саркастично обозначает Грасс вехи антиеврейской деятельности нацистов: вот закрыли газету еврейской общины, вот студенты-евреи вынуждены прервать занятия, преподавателей-евреев увольняют, а то и заключают в лагерь. Но иногда писатель вводит запоминающиеся детали, вроде этой: «В спортивном зале гимназии кронпринца Вильгельма повесился на турнике семнадцатилетний гимназист, после того как его соученики заставили его в уборной (просто так, из баловства) показать свою обрезанную крайнюю плоть».
С марта 1933 года начался бойкот еврейских магазинов. Врачи-евреи были уволены и исключены из общества врачей. Евреи-судебные чиновники без всяких объяснений переведены на низшие должности. Артисты-евреи не допущены на фестиваль в Сопоте. Спортивному обществу Бар-Кохба было отказано в аренде городских спортзалов. Сегодня издано много воспоминаний, по ним, по «Дневнику» Виктора Клемперера можно проследить, как день за днем урезали права евреев, пока не появились расистские нюрнбергские законы в 1935 году, а пятью годами позже не началось систематическое уничтожение людей. Дотошные исследователи подсчитали, что за первые годы нацизма было издано 1937 законов, указов, директив, циркуляров, инструкций, предписаний и распоряжений всякого рода, определивших участь евреев в третьем рейхе. Вот уж поистине: ни дня без строчки!
Автору «Дневника улитки» в 1937 году было десять лет. Он помнит, как в конце октября с данцигского базара прогнали всех торговцев-евреев. «На всех данцигских базарах и торговых улицах разгул насилия принял общенародный размах» – свидетельствует писатель. И герой книги штудиенасессор Герман Отт (он же Скептик) фиксирует внимание на поведении рядовых обывателей. Постоянно покупавший корм для своих улиток у зеленщика Исаака Лабана, учитель страшно удивился, не обнаружив колоритную фигуру бывшего унтер-офицера на привычном месте. Молодая крестьянка, занявшая его прилавок, на вопрос о предшественнике рявкнула: «Какое мне дело до жидов?». Соседние торговки оскалились. На Отта обрушилось всеобщее улюлюканье.
Однажды в Бад-Киссингене немолодая немка, заметив, что я рассматриваю витрину аптеки, на стекле которой сохранилась надпись на иврите – красноречивое свидетельство, что некогда здесь был еврейский бакалейный магазин, заговорила со мной. В ходе нашей беседы она не без гордости заметила, что ее мать покупала у евреев несмотря на всеобщий бойкот. Я тогда не поняла, почему она говорит об этом как чуть ли не о героическом поступке. Но тот, кто прочтет книгу Грасса, согласится: это и впрямь был поступок.
 Когда 17 декабря
Когда 17 декабря
1938 года община
приняла решение покинуть город, многие
старики в зале лишились чувств. Их можно понять:
чтобы купить право на выезд в неизвестность,
евреи должны были продать за бесценок синагоги и земельные участки,
включая кладбища.
Вырученных денег на всех не хватило.
Скептик нашел Лабана в переулке, где евреям было разрешено разложить их нехитрый товар, «чтобы видно было, кто из арийских домохозяек все еще покупает у евреев». «Когда штудиенасессор направился со своей покупкой в обратный путь, за ним до самой остановки трамвая движущимся колоколом гремело беспрерывное пронзительное “Тьфу-у!”. И прежде чем он успел войти в прицепной вагон трамвая, одна старая женщина, наверняка любящая бабушка, вытащила из своей фетровой шляпы-кастрюли булавку и воткнула ее раз и еще раз в кочан салата. “Тьфу на тебя, дьявол!” – крикнула она и вытерла шляпную булавку о рукав».
Перед нами, так сказать, обыкновенный фашизм. Разбудить темные инстинкты не так уж и трудно. Но и среди всеобщей вакханалии нашлись единицы, не уронившие человеческого достоинства. Когда еврейских детей изгнали из школ, в Данциге открылась частная «розенбаумская школа», в которой кроме Скептика работали еще несколько учителей-немцев. Грасс говорит об этом без тени умиления, как о норме. Находились люди, которые вели себя нормально: на фоне нормы всякие отступления особенно заметны. Даже если отступления преобладают.
Пусть читателя не удивляет и то, что старшеклассники еврейской школы с одинаковым увлечением разыгрывают пуримшпиль и ставят спектакль по «Песне о Нибелунгах». Дети с восторгом выступают в роли Зигфрида, Кримхильды, Брюнхильды, живут страстями этих знакомых им с детства героев германского эпоса. Персонажи эти уже объявлены нацистами эталонами арийства, к которым еврею не позволено даже приблизиться. Но дети не способны отделить себя от культуры, с которой сроднились не только их отцы, но деды и прадеды. Они выросли немцами иудейского вероисповедания. Немцем ощущает себя и старый зеленщик Исаак Лабан, который в годы первой мировой войны был ранен под Верденом и получил Железный крест. Член имперского совета фронтовиков-евреев, он после смерти рейхспрезидента Гинденбурга носит траур и произносит патриотические речи, даже когда вяжет лук в связки и моет морковь перед продажей. Потому лишь немногие из немецких евреев приняли всерьез первые антиеврейские демарши штурмовиков. Потому так мучительно решались на отъезд. Все верили, что дурман нацистской пропаганды рассеется. Неслучайно Герман Отт, предчувствуя лихие времена, говорит: «Когда все полетит в тартарары, евреи будут последними истинными немцами».
Если читателю довелось побывать в Израиле и заглянуть в Нагарию и Гиватаим или пройтись по немецкому кварталу в Тель-Авиве, то он конечно сразу отметил типично немецкую архитектуру. И не только палисадники, балкончики, окна, утопающие в цветах, но и ментальность хозяев напомнят вам Германию. Неслучайно израильтяне зовут их «йеки» (прозвище немцев). Потому не нужно удивляться, когда читаешь на памятнике в Бонне: «Гражданам города, погибшим в годы нацизма». Да, они были немецкими гражданами, эти гонимые, а затем уничтоженные евреи. Сейчас в Германии это всячески подчеркивается.
В тот день, когда Скептику дважды прокололи кочан салата, в Данциге еще проживали 7 479 евреев. С августа 1938 года нападения на синагоги и разбитые окна в доме прусской ложи стали повседневностью. По поводу событий 9 ноября 1938 года Скептик в дневнике высказался коротко: «Имперская “Хрустальная ночь” – это вместительная метафора». Метафора сработала. В конце ноября в Данциге оставалось уже менее 4 600 евреев.
Когда 17 декабря 1938 года община приняла решение покинуть город, многие старики в зале лишились чувств. Их можно понять: чтобы купить право на выезд в неизвестность, евреи должны были продать за бесценок синагоги и земельные участки, включая кладбища. Вырученных денег на всех не хватило.
В ночь на 3 марта 1939 года пятьсот данцигских евреев в пломбированных вагонах отправились через Бреслау, Вену, Будапешт в портовый городок Рени на Черном море, где они должны были пересесть на корабль. Это судно «Астир» оказалось грузовозом, не приспособленным для перевозки пассажиров. Наспех сбили перегородки между носовой и кормовой частью, отделив таким образом женщин от мужчин. Оставшиеся в Данциге ученики Скептика окрестили судно «Ковчегом улиток». Одиссея его скитаний описана скупо. Главное – этот ковчег достиг берегов Палестины.
Летом того же года удалось отправить в Лондон четыре партии еврейских детей – всего 122 ребенка. И лишь единицы из них смогли впоследствии увидеться со своими родителями. Из остававшихся в городе двух тысяч евреев выжили немногие. Среди них было довольно много польских евреев, застрявших тут еще в 20-е годы, в момент массовой эмиграции в США. Они оказались обречены. По возвращению в Польшу одни попали в Варшавское гетто, другие – в Освенцим.
Через неделю после начала второй мировой войны евреям Данцига было приказано покинуть квартиры и перебраться в еврейскую богадельню. Некоторые покончили с собой. Под гетто был переоборудован большой амбар на окраине. В конце ноября палестинское представительство в Берлине дало разрешение на въезд в Палестину пятидесяти евреям Данцига. Вместе с тысячью чешских, венгерских евреев они добрались до югославской гавани Кладово. Здесь они застряли на девять месяцев, а затем были интернированы в Сабаце. Из полусотни уцелели лишь трое, им удалось добраться до Палестины. Остальных расстреляли немецкие командос, когда захватили лагерь Сабац.
Евреям Данцига 26 августа 1940 года было велено собраться у портовой столовой. Пришли 527 человек. Прежде всего, им предложили сдать все имеющиеся деньги. Затем процессия медленно – большинство люди пожилые! – двинулась к грузовой верфи. Ее сопровождали насмешки, улюлюканье и плевки бывших сограждан. Евреев погрузили в дюжину вагонов, и через сутки они оказались в Братиславе. Там их пересадили на дунайский пароходик «Гелиос». Наконец, 11 сентября по прибытии в порт Тулцея им была дана возможность взойти на борт большого корабля «Атлантик», который взял курс на Палестину и вошел в порт Хайфа 24 ноября. Однако на берег не сошел никто. По решению мандатных властей все должны были перебраться на «Патрию», стоявшую на рейде. Ей предстояло принять четыре тысячи эмигрантов-евреев и доставить их в какую-нибудь британскую колонию. Когда посадка шла полным ходом, на борту «Патрии» раздался мощный взрыв. Корабль перевернулся и затонул через пять минут. И 260 человек, среди которых были и данцигские евреи, погибли от взрыва или утонули. Оставшиеся в живых позднее узнали, что бомба была подложена членами сионистской «Хаганы», решившими таким образом воспрепятствовать депортации евреев из Палестины. Лишь тридцати данцигским евреям удалось осесть на Святой Земле Израиля. Остальных выслали на остров Маврикий, где большинство погибло от малярии и тифа.
В январе 1942 года ушел из Данцига в Терезиенштадт последний транспорт с евреями. Значительная часть из них были старики, которые умерли в пути или вскоре после прибытия в этот город. Город, «подаренный фюрером евреям Европы», – именно так представлена история Терезиенштадта в рекламном пропагандистском нацистском фильме, который мне довелось увидеть здесь, в Кельне. Кое-кто закончил свой многострадальный жизненный путь в Маутхаузене...
Когда Данциг освободили, из щелей, подвалов, кладбищенских склепов выбрались на свет Б-жий двадцать выживших евреев. Два десятка – из десяти тысяч...
Рассказывая о тех, кто уцелел, Грасс бегло знакомит с их послевоенными судьбами. Он отыскал всех, кого смог: ведь многих он знал, а с некоторыми и дружил. Живут они и их дети по большей части в Израиле, в своем государстве. И ему, Грассу, не раз доводилось там бывать. Ровно через 33 года после «Хрустальной ночи», 9 ноября 1971 года он читал отрывки из «Дневника» студентам Иерусалимского университета. Молодые бейтаровцы пытались сорвать выступление криками: «Немцы – убийцы!» Грасс мог бы умолчать об этом, обойти острые углы. Однако он не делает этого сознательно. Своим сыновьям он говорит однозначно: «Вы – не убийцы». «Вы неповинны, – продолжает писатель. – И я, достаточно поздно родившийся, тоже считаюсь незапятнанным (семнадцатилетний Грасс был призван в вермахт в 1944 году и вскоре оказался в плену у американцев. – Г.И.). Но только если я хотел бы забыть, а вы не хотели бы знать, как постепенно приходили к тому, к чему пришли, нас могут настичь простые слова: вина и стыд. Их тоже, этих двух неотступных улиток, не остановишь».
Эти слова звучат сегодня куда более актуально, чем когда они были сказаны. Сейчас на повестке дня стоит вопрос не о коллективной вине немцев, а о коллективной памяти. Человек, наверное, неспособен к длительному трауру. А здесь, в Германии, срабатывает еще и «торопливая готовность стряхнуть с себя преступления национал-социализма как минутное ослепление, как иррациональное заблуждение, как нечто непостижимое, а потому извинительное». Спор председателя еврейских общин Бубиса, ныне покойного, и немецкого писателя Мартина Вальзера по этому поводу еще у всех на слуху.
Когда Вилли Брандт опустился на колени там, где прежде было варшавское гетто, рядом с ним был и Гюнтер Грасс. Немецкий писатель определяет этот жест как «запоздалое признание нашей неизбывной вины». Но думать, что раскаяние может стать состоянием всего общества, не следует. Раскаяние предполагает знание. А поэтому правду о Холокосте должны знать все. И помнить долгие годы. Гюнтер Грасс – один из тех, кто будоражит память.