Лев Рубинштейн: «Еврей в России больше чем еврей»
В экспозиции Еврейского музея и центра толерантности открылся новый, 12‑й павильон — «От перестройки до наших дней». Его осмотр предлагается начать c фильма, в котором запечатлены и бесславный развал СССР, и Горбачев, и путчи. События на экране комментируют очевидцы, среди которых главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, рок‑музыкант Андрей Макаревич, этнограф и общественный деятель Михаил Членов, предприниматель Виктор Вексельберг, телеведущий Николай Сванидзе… И поэт Лев Рубинштейн, который теперь уже по просьбе «Лехаима» еще раз вспоминает об этой эпохе.
Ирина Мак Если говорить о еврейской жизни в конце 1980‑х и позже, что вы вспоминаете прежде всего?
Лев Рубинштейн Я вспоминаю музей, где мы с вами находимся, потому что, видимо, я такой плохой еврей, который специфической еврейской жизнью‑то никогда и не жил. Я из тех, кто чаще всего вспоминал о своем еврейском происхождении, когда ему о том напоминали.
ИМ Жизнь нам постоянно напоминала.
ЛР Это правда, и надо сказать, что, немножко уйдя из сферы государственной, ксенофобия плавно перетекла в сферу общественную.
ИМ Как только появилась общественная жизнь.
ЛР Ее же раньше не было, а тут она появилась. Я очень хорошо помню это время, конец 1980‑х — начало 1990‑х. Мы тогда жили в центре, и как сейчас в каком‑нибудь Фейсбуке, кучками собирались люди и что‑то обсуждали. Среди них был силен националистический элемент — тогда это называлось обществом «Память». Эти люди открыто высказывали откровенно нацистские взгляды.
ИМ И никто им не мешал.
ЛР Особенно никто. Это было то же самое, что я слышал в детстве во дворе, только высказанное более, ну что ли, наукообразно.
ИМ А во дворе слышали часто?
ЛР О том, что я еврей, я узнал не от родителей, а именно во дворе. Было мне лет шесть‑семь. Я жил то у одной бабушки, то у другой. Одна жила у Никитских ворот, другая за городом, в районе Мытищ. Есть такие станции — Тайнинская, Перловская… К слову сказать, места эти, особенно Перловка, были сильно еврейскими. И за городом антисемитизма было больше, чем в центре Москвы, — рядом находились бараки. Там все знали, кто мои родители, знали фамилию, слышали, как говорила с акцентом бабушка, мамина мама, у которой русский язык был не родным.
ИМ В конце 1980‑х евреев стали выпускать из Союза. В фильме, который открывает новый фрагмент музейной экспозиции, вы говорите: «Это было время невероятной социальной скуки». Но ведь это сказано о других временах, которые предшествовали перестройке?
ЛР Конечно, я‑то рассказывал больше о советских временах, о 1970‑х — начале 1980‑х.
ИМ И кадры страшных слезных прощаний, похоронных.
ЛР Понятно, что любое прощание надолго было трагедией — семьи расставались, налаженный быт рушился. Я помню, как уезжал мой старший брат — правда, не в Израиль, а в Нью‑Йорк, уже в начале 1990‑х. Сначала его сын уехал, мой племянник, — полетел в гости к родственникам и остался. Брат поехал к нему — без особого рвения, и тоже все плакали. Но уже иначе. А отъезды 1970‑х годов — это были абсолютные поминки. Для меня с 1975‑го и где‑то до 1981‑го были сплошные проводы. И за каждым столом шли эти разговоры, ехать — не ехать. К сожалению, они сейчас возвращаются.
ИМ А конец 1980‑х, несмотря на то что Союз еще существовал, в моих воспоминаниях остался как постсоветское время.
ЛР Да, это была уже не тоталитарная эпоха. Вы понимаете, в конце 1970‑х массово уезжали люди моего круга. А позже уезжали другие, и это была другая эмиграция. Назовем ее вежливо экономической. Люди боялись, что здесь начнется разруха и голод, и ехали за лучшей жизнью. Я их ни в коем случае не осуждаю, но мои друзья уезжали по другим причинам. И по тем же причинам в конце 1980‑х возвращались — появилась свобода, возник новый вектор…
ИМ Который давал надежду. И во многом эти люди стали определять новую жизнь — как минимум, в прессе, потому что они имели опыт свободной западной жизни.
ЛР Не только в прессе, но, кажется, и в бизнесе.
ИМ Если же говорить о евреях в эти годы, то не просто исчез государственный антисемитизм — еврейской жизни был создан режим наибольшего благоприятствования. И меня поражало, как быстро в привычной еврейской роли оказались другие. Католики, например. Грузины в какой‑то момент.
ЛР Потом условными «евреями» стали гомосексуалы. Более того, когда здесь имели место всплески антимиграционных волнений, я как еврей испытывал стыд: нас не трогают, а бьют других. У населения скопилось огромное количество ищущей выхода и применения ксенофобии. Она меняет только объекты, она никуда не исчезает. А евреи во все времена были для ксенофобов очень удобным и лакомым объектом: понятно, что евреи другие, но непонятно чем. Те, кто ходит в мечеть, или чернокожие — их не надо разоблачать, они очевидно другие. А евреи вроде бы похожи, говорят на том же языке, часто даже лучше, одеваются так же. И возникает неиссякаемое желание в ком‑то разоблачить еврея.
ИМ Сейчас, мне кажется, разоблачают уже не евреев.
ЛР Но я не исключаю, что в любой момент это коснется нас. Вообще, в нашей стране, мне думается, понятие «еврей» не столько этническое, сколько социально‑культурное. В России евреи, широко говоря, — это всегда те, кто не слишком вписывается в общественно‑политический мейнстрим.
ИМ Я помню, говорили: «Ну ты прямо как еврей!»
ЛР Да, это был синоним русофоба.
ИМ И, например, когда православие еще не стало в России государствообразующей религией, пока православные были гонимыми…
ЛР Многие евреи тогда принимали православие, кстати.
ИМ Это правда, но я о другом: многие евреи тогда поддерживали православных как гонимых, требовали свободы вероисповедания, выказывали солидарность.
ЛР И объединялись в общей борьбе. Еврей в России больше чем еврей.
ИМ Вы хорошо представляете себе, что значит быть евреем здесь и сейчас. Чего, по‑вашему, не хватает в новом разделе музейной экспозиции, когда мы говорим о современности?
ЛР Мне не хватает определенности. Тут есть некий элемент сервильности, который очень понятен, потому что власти действительно помогают и музею, и общине. Было бы хорошо, даже если бы просто не мешали, однако — помогают. Но вот что надо все время кого‑то благодарить за то, что нет нового «дела врачей», — эта интонация, увы, присутствует и в фильме. Спасибо партии и правительству за то, что еврей может вслух сказать, что он еврей. Какое счастье!
ИМ Фильм напомнил эпизод, который меня в свое время потряс: путч 1991 года и трое погибших. Неловко признаваться, но я тогда подумала: как будто специально — русский, татарин и еврей.
ЛР Да, такой срез Москвы. Как в пропагандистском фильме про дружбу народов. Это, я помню, всех очень впечатлило.
ИМ А потом на евреев повесили обвинения в перестройке. И я сразу вспомнила, как евреев пытались сделать виновными в революции.
ЛР Евреев в свое время обвиняли и в революции, и в контрреволюции. И я даже знаю, в чем нас обвинят, когда речь зайдет о нынешних временах. Что евреи поссорили русский и украинский народы. Но и это мы переживем.

Четверо детей
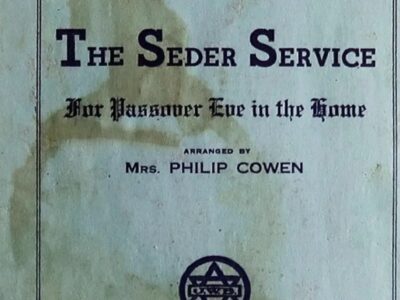
Первая Пасхальная агада, ставшая в Америке бестселлером





