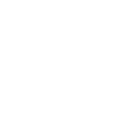[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ МАРТ 2012 АДАР 5772 – 3(239)

Трудности подзаголовка
Разглядывая иллюстрации, помещенные в книге Веры Чайковской, ловишь себя на том, что, если заранее не знать, кто автор, не догадаешься о национальности художника. Разве что этнографические приметы могли бы стать подсказкой. Но как быть тогда, например, с видами Витебска работы Добужинского? Говорить о литовской ноте в еврейской культуре? Или о русской в белорусской?
Живопись не литература, ее язык описывается с трудом. Еще труднее определить «ноту» — термин, который принято использовать не только в музыковедении, но и в гуманитарных науках в целом. Кому-то наличие еврейского в творчестве Серова и Лабаса, Аксельрода и Левиной-Розенгольц кажется настолько очевидным, что оно не нуждается в доказательстве. Но самые очевидные вещи обычно и наименее выразимы. Не считать же определением специфики «еврейской ноты» замечание Веры Чайковской, что «у еврейских авторов элемент чувственного переживания мира, проникновения в его “живую плоть”, трагически-радостное приятие бытия выражены, как мне кажется, несколько сильнее и острее».
Возражения вызывают многие «эвристические предположения» книги. Одни касаются литературы: «Известный хасидский раввин рабби Нахман из Браслава (1772–1810) говорил: “Великий закон Торы — всегда быть в радости”. Теперь становится понятнее то “радостное” дыхание, которое свойственно лирике Мандельштама». Другие посвящены живописи. Автор предлагает выстроить цепочки русских и еврейских живописцев XIX–XX веков (Саврасов, Филонов, Петров-Водкин, Попков — и Левитан, Шагал, Тышлер, Фальк, Табенкин): тогда, мол, «бросится в глаза гораздо большая суровость, строгость и аскетичность русских художников в сравнении с более мягкими, радостными и ориентированными на чувственный мир художниками-евреями». Эта идея варьируется из статьи в статью: еврейская «специфическая художественная нота в этой общей симфонии состоит в большей чувственной погруженности и даже некоторой экстатической избыточности упоения “прелестью” мира, которые мы находим у еврейских художников…».
Допустим, книга, составленная из очерков, посвященных нескольким московским выставкам, изначально не претендует на теоретическую глубину. Но насколько правомерна сама постановка вопроса о «еврейской ноте» в русском искусстве?
Традиция вычленять «ноту» в некоем художественном массиве существует давно. Самые известные «ноты» — литературные, начиная со знаменитой «парижской». Во многом она была порождением ума Георгия Адамовича, который объединил этим термином поэтов-младоэмигрантов: Довида Кнута, Юрия Мандельштама, Анатолия Штейгера… Известный специалист по литературе русской эмиграции Олег Коростелев в одной из своих статей перечисляет другие подобные «ноты», среди которых и «иерусалимская» (предложивший ее Александр Гольдштейн прямо проводил аналогию с «парижской»), и «пермская», и «гудзонская», и «средиземноморская». Каждый раз это географический феномен, порождающий некие не вполне улавливаемые смыслы и существующий именно за счет расширенно-необязательного толкования. Когда же место географии занимает народ, то получается совсем странно: одна абстракция строится на фундаменте другой, читателю приходится блуждать в тумане романтических недоговоренностей. Хотя обоснование любого вновь вводимого термина требует отточенной четкости суждений, иначе тот рискует подвергнуться эрозии вплоть до исчезновения.
Подобных обоснований в книге Чайковской нет — как нет и обязательных, казалось бы, для такой темы имен: Абрама Минчина, Пинхуса Кременя или Осипа Цадкина. Их причисляют к т. н. «парижской школе» в искусстве (опять географический, а не национальный термин). Правда, исследователи пишут о «еврейской парижской школе», вычленяя авторов еврейского происхождения из массива «понаехавших» во французскую столицу в начале XX века со всего света художников. Но, скажем, в содержательной статье Натали Хасан-Брюне, опубликованной в каталоге выставки «Парижская школа» в ГМИИ, скорее рассказывается об арт-жизни на берегах Сены в 1920–1930-х годах, об антисемитских настроениях в художественной среде, чем делается попытка вычленить общее в творчестве «новых парижан». Да, автор цитирует статью Бернара Дориваля, писавшего в 1945 году о «еврейском экспрессионизме», но рассматривает ее как схему, а не как убедительную теорию. Позиция же самой исследовательницы обозначена так: «Очевидное присутствие еврейской расы в художественной среде дало жизнь термину “еврейская парижская школа”. Однако мы не встречаем ни одной явной еврейской темы в произведениях этих лет, также в них практически невозможно выделить общий набор приемов или особенный художественный язык».
Книга Веры Чайковской завершается авторским признанием: «Мне хотелось прочертить некую тенденцию, характерную для авторов-евреев, работавших внутри русской культуры и русского искусства». А начинается с рассказа о споре с неким редактором относительно Мандельштама — русский поэт он или нет. Редактор считал, что «русскоязычный, советский, но только не русский». Автор — что «поэт русский — в том смысле, что входит в систему русской культуры, питается ее соками и сам прокладывает в ней новые пути». Простейший и важнейший аргумент — Мандельштам русский поэт, поскольку пишет на русском языке, — никому в голову не пришел. Отсутствие этого аргумента можно счесть решающим и при разговоре о книге самой Чайковской. Когда язык искусства выпадает из разговора об искусстве, исчезает сам предмет беседы.
Алексей Мокроусов
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.