[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ МАРТ 2012 АДАР 5772 – 3(239)
Сухое пламя
Никита Елисеев
В марте исполняется 80 лет со дня рождения и 10 лет со дня смерти замечательного прозаика Фридриха Горенштейна. Накануне этой даты издательство «Азбука» приступило к выпуску собрания сочинений писателя в восьми томах. О прозе Горенштейна и «азбучном» проекте читателям «Лехаима» рассказывает Никита Елисеев.

Андрей Тарковский с актерами Донатасом Банионисом и Натальей Бондарчук на съемках «Соляриса», сценарий которого был написан Фридрихом Горенштейном по мотивам романа Станислава Лема
Хармс делил писателей на огненных и водных, сухих и влажных. По этой классификации Фридрих Наумович Горенштейн относится к огненно-сухим. Сухое пламя. Огненный сухарь. Абсолютное спокойствие. Четкость. Сухость.
Он недаром стал сценаристом. Черная точечка вши на белой блузке злой и несчастной девушки из повести «Искупление» помнится всем, кто эту повесть читал. Более того, можно (от ужаса) забыть всю событийную, сюжетную, сторону напрочь, но вошь, которая выползла во время танца, вошь, которая разом перевернула радость и счастье в позор, горе и унижение, — уже не забудется никогда. Эта деталь сконцентрировала весь мрак повести и закрыла его собой. Может быть, ради этой детали Горенштейн и писал «Искупление», как Пушкин писал весь «Медный всадник» ради четырех строчек про «тяжело-звонкое скаканье».
По бестрепетному, спокойному вглядыванию в трагедию ХХ века Горенштейн может быть сравним разве что с Андреем Платоновым. Но Платонов не так страшен. У Платонова все же есть влажность: странности стиля, фантастический синтаксис, даже юмор, не менее странный, чем его стиль. У Горенштейна ничего подобного. Все отжато. Подчеркнуто правильная, литературная речь без украшательств, без извивов. Деловая, деловитая проза. Внимание к детали. Анджей Вайда мечтал экранизировать «Дом с башенкой» Горенштейна. Его восхитил золоченый портсигар инвалида. В портсигаре инвалид носил кислую капусту на закусь. Такое не забудешь.
Прочтенный Горенштейн запоминается именно так. Общим ощущением и деталями. Он врезается не в память — в подкорку. Память-то как раз Горенштейна — в точности по Фрейду — отторгает. Можно забыть название рассказа о гибели интеллигентной еврейской семьи, можно забыть фабулу, но саму историю про двух еврейских малышей, привыкших к уюту, ласке, заботе, к культуре и рухнувших в ад советского детдома, запоминаешь кожей.
Чаще всего в связи с Горенштейном поминают Достоевского. Это неудивительно. Одна из пьес Горенштейна так и называется: «Споры о Достоевском». И это глубоко, принципиально неверно. Не было писателя более враждебного Горенштейну, более неприятного и неприемлемого, чем Достоевский. Дело не только в подчеркнутом антисемитизме последнего. В конце концов, самый близкий Горенштейну русский классик — Чехов — тоже был не чужд этой заразе. Дело в другом — как раз в том, что отделяет друг от друга Чехова и Достоевского: в сухости, в строгой отжатости повествования, не допускающей никакой сентиментальщины, никакой мягкости. Один из своих сталинградских очерков Василий Гроссман назвал «Глазами Чехова». Чехов — фамилия сталинградского снайпера. Название получилось двусмысленное или, точнее, двоесмысленное. Глаза Чехова — глаза безжалостного, точного снайпера. Такие же были и у Горенштейна.
Достоевский для него — точка отталкивания, не притяжения. У Горенштейна никогда бы не было такого сентиментального и, в общем-то, фальшивого финала, как в «Братьях Карамазовых». Мальчики собираются у могилки сверстника, которого они мучили всю его короткую жизнь, а под конец опамятовались и принялись холить и лелеять. И вот теперь они все стоят вместе, возрожденные к добру, исправившиеся, покаявшиеся, искупившие свою вину, прощенные Б-гом, то есть автором романа, и слушают речь Алеши Карамазова о вечной жизни и о том, как они сейчас блины будут есть, потому что это тоже вечное и доброе.

Вот такой метафизической сопли ни у Горенштейна, ни у Чехова быть не могло. В вокабуляре этих авторов нет слова «прощение». Они не прощают. В принципе — не прощают. Возмездие есть в их словаре, а прощения и в помине нет. И это ближе к ХХ веку, чем кающийся интеллектуал-убийца Достоевского.
Достоевского помянул в одном из своих нелицеприятных отзывов на фильм «Солярис» Станислав Лем. Сценарий к этому фильму по роману Лема писал Горенштейн. Лем не признал свое произведение. Не узнал его. Первый его отзыв был просто за гранью приличий. Когда польскому фантасту и философу сказали, что фильм пользуется невероятным успехом у западных интеллектуалов, Лем ответил: «Картинки хорошие, но вслушались бы эти интеллектуалы в текст. Мои герои говорят языком передовиц из газеты “Правда”». Обидно и несправедливо. Даже хочется огрызнуться: «Пан Станислав, а вы давно “Правду” читали? Хоть бы кто-нибудь там так заговорил…»
Но когда раздражение проходит, замечаешь, что в чем-то важном Лем прав. Его тонкая, печальная, философская, чуть ироничная проза огрубилась, стала резче, безжалостнее. Плакатнее? Газетнее? Остроугольнее… В ней появился непредусмотренный Лемом обертон, каковой он и сам заметил и отметил, когда поуспокоился. Отвечая на какой-то пресс-конференции на вопросы о шедевре Тарковского и Горенштейна, он не менее точно, хотя гораздо более комплиментарно, объяснил причины своего неприятия: писал, мол, в сторону Канта, а русские сняли «Преступление и наказание».
В точку, ибо Лем писал о границах человеческого познания, а Горенштейн — о том, что грех, преступление, проступок неискупимы, не прощаемы и непростительны. Тебя никто и ничто не может простить, если ты совершил гадость. Нет той Гретхен, которая отмолила бы твой грех, даже если ты гений и Фауст. Если из-за тебя покончила с собой женщина, то возродись она каким-то чудом, ты убьешь ее по новой. Или в космос отправишь болтаться в ракете-спутнике, или аннигилируешь рентгеновскими лучами. Твое преступление с тобой, никуда оно не денется. «Солярис» такой, каким его написал Горенштейн, даже не «Преступление и наказание», но «Преступление и антинаказание», ибо нет ничего в мире, что могло бы стереть или преобразовать преступление. Нет наказания, адекватного преступлению. Поэтому нет ни прощения, ни искупления.
Одна из самых страшных вещей Горенштейна названа «Искупление». Теперь уже не спросишь, не поинтересуешься: думал ли Горенштейн о другом «Искуплении» русской литературы второй половины ХХ века, о повести Юлия Даниэля? Очень сомнительно, чтобы Горенштейн, вращавшийся в киношно-писательской московской среде, не знал этого текста, за который автор схлопотал срок.
Ничего общего у горенштейновского «Искупления» с даниэлевским нет. За исключением названия, но названия-то большими писателями даром не даются. Потому-то и кажется, что Горенштейн возражает Даниэлю. Не сюжетно, не тематически, а, так сказать, мировоззренчески-настроенчески. Ибо Даниэль — писатель влажный, водяной. В его мире есть место и надежде, и искуплению. Горенштейн мог бы повторить вслед за Кафкой: «О, в нашем мире бесконечно много надежды, но только не для нас…»
В России не было другого писателя, который столь сурово судил бы человека и о человеке, как Горенштейн. Впрочем, нет. Были. Один уже назван: Чехов. Другой — Шаламов. Причем к Горенштейну ближе всего жесткий пафос ригориста и богоборца Шаламова. Кстати (а может, и вовсе некстати), как и Горенштейн, великого любителя кошек и собак. В одном перестроечном интервью с Горенштейном есть совершенно восхитительное место. Неглупая журналистка принялась расспрашивать Горенштейна о фильме Киры Муратовой «Астенический синдром», справедливо решив, что по степени жестокости и безжалостности он должен прийтись писателю по сердцу. К ее немалому удивлению, Горенштейн в пух и прах изругал этот фильм за жестокость и безжалостность по отношению… к собакам и кошкам. Нельзя было показывать собачье-кошачью бойню. Журналистка тихонько заметила, что ведь и по отношению к людям фильм Муратовой… и была резко прервана писателем: «А вас чего жалеть?»
В этом весь он. Сухое пламя, огненный сухарь. Страшный суд. Лазарь Лазарев в мемуарном очерке о Горенштейне писал: феноменальный случай. Писатель, который не стремился к читателям. Ему этого не надо было. Сухое пламя горит само по себе. Читатели от него чаще всего шарахаются. Обжигает, царапает, выцарапывает в душе нечто такое, чего уже не забудешь, даже если бы хотел. Прекрасный русский язык и очень едкие фабулы. Редкий случай русского писателя, адекватного XX веку — убийце, волкодаву. Русские все должны смягчить, высветлить. Вот из этой парадигмы Горенштейн ушел рано, хлопнув дверью. Он бьет по чувствам раньше, чем успевает рассказать историю до конца. Он еще только начал, а ты уже сбежал, причем не только от малодушия, а просто оттого, что все каналы восприятия уже забиты. Но прочитанное-недочитанное долго не отпускает, может и поселиться насовсем.
Здесь есть один мотив, который нельзя не напеть, раз писатель умер и образ его выкристаллизовался, сомкнулся с его творчеством, стал не столько дополнением, сколько противовесом его безжалостной прозы. Самый трагический писатель русской литературы ХХ века в жизни (по всем законам житейского, бытового или бытийного равновесия) был едва ли не комической фигурой. В бытовых своих проявлениях он порой напоминал Чаплина. Не артиста и режиссера Чарльза Спенсера Чаплина, а его персонажа, бродяжку Чарли, изо всех сил старающегося выглядеть джентльменом. Потрясенный Лазарев вспоминает, как он впервые увидел автора мощного трагического рассказа, от которого (от рассказа, а не от автора) шарахнулись прочь во всех редакциях советских журналов. Перед Лазаревым стоял молодой человек в костюме-тройке. В Москве уже давным-давно никто не поддевал под пиджак жилетку. Но даже не это поразило Лазарева, а какой-то странный вид этого шикарно-старомодного костюма. Житейски опытная жена критика потом объяснила мужу странность гардероба франта. Тройка была даже не базарная, но самодельная.
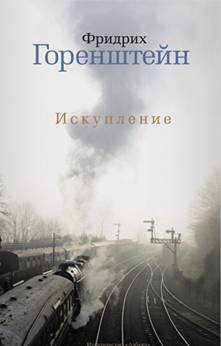
То была жажда подтверждения своей реализованности, своего места в жизни. Тот же Лазарев с тем же удивлением вспоминает жуткого вида здоровенный перстень, купленный Горенштейном с первых своих довольно крупных киношных гонораров. Лазарев не преминул посмеяться над таким «удачным» вложением капитала. Посмеялся не без риска, Горенштейн был обидчив и обид не забывал. Но тут Лазарев услышал спокойно-недоуменное: «Тебе не нравится? А по-моему, очень красиво…» Мандельштам называл подобные финты «яростной камер-юнкерской борьбой поэта за свое место в мире». Материальный знак победы. Фиксация удачи. Русская поговорка «на Б-га надейся, а сам не плошай» для Горенштейна звучала по-другому: «Не надейся на Б-га. У Б-га и без тебя хлопот хватает. Сам не плошай». Отсюда его обидчивость, скандалы, самодельная тройка, пугающих размеров перстень или огроменный стол на малахитовой основе, купленный на гонорары с французских изданий и с трудом втиснутый в небольшую берлинскую квартиру. Символы. Горенштейн был настоящим мистиком и настоящим материалистом. Символ должен быть материально внушителен, как перстень, как малахитовый стол-гигант.
В жестоком мире нельзя плошать. Погибнешь. Это Горенштейн понял очень рано. Его отец был арестован и погиб. Горенштейн видел дело своего отца, профессора политэкономии. В одной из статей Наум Горенштейн доказывал нерентабельность колхозов. «Идеалист, — откомментировал статью отца сын, — можно подумать, что колхозы создавались для рентабельности». Мать бежала с сыном из Москвы в Бердичев. Сменила фамилию и имя сыну. Сын стал Феликсом Прилуцким и оставался им до самой реабилитации отца. Накануне прихода немцев в Бердичев матери и сыну удалось бежать. Сестры матери были уничтожены нацистами.
В разрешенное советское литературное пространство Горенштейн смог войти одним-единственным рассказом об эвакуации «Дом с башенкой». Дальше — шлагбаум опустился. Путь в официальную литературу был писателю закрыт. Горенштейн это понял. Он природно, стихийно не подходил этой среде. Не так видел, не так изображал увиденное. Не умел сглаживать углы.
Оставался самиздат. Но самиздат предполагает верных, готовых на риск читателей-единомышленников, которых должно быть немало. У Горенштейна не могло и не может быть очень много читателей. Василий Розанов только хвастался: «Я с читателем не церемонюсь». По-настоящему не церемонился с читателем именно Горенштейн. По этой причине круг его читателей не столько узок, сколько глубок или высок. Он, например, стал любимым писателем Франсуа Миттерана. Но стать массово почитаемым и читаемым Горенштейну никогда не грозило. Значит, и самиздатский путь был закрыт. Что оставалось? Писать в стол, ждать своего часа и зарабатывать на жизнь сценарной халтурой.
Надобно особо сказать о сценариях, которые Горенштейн делал для заработка. Строго говоря, и они халтурой не являлись. Оставим за скобками абсолютный кинематографический шедевр «Солярис», не будем говорить об одном из лучших фильмов Никиты Михалкова «Раба любви», но даже залихватский вестерн-истерн «Седьмая пуля» Али Хамраева в высшей степени достойное кинопроизведение.
Горенштейн везде остается Горенштейном. Он всегда гнет свою линию. Подпольщик, яростный фанатик из «Рабы любви», который кричит после документальных кадров умирающих от голода детей-скелетиков: «Это простить? Это им простить?» — горенштейновская тема. Тема человека, не намеренного никому ничего прощать. Лихой командир красного отряда из «Седьмой пули», в упор расстреливающий басмачей во время намаза и тем спасающий свою жизнь, — то самое, горенштейновское: «Не надейся на Б-га, только на себя. На оставшиеся у тебя семь пуль в барабане револьвера».
Момент выхода к читателю был выбран Горенштейном со снайперской, револьверной точностью. Ни раньше ни позже. Раньше — и его раздавило бы всесильное государство. Позже — и он не прорвался бы сквозь базар формирующегося литературного рынка. В конце 1970-х он говорил Лазареву: «Пора печататься». Не просто печататься за рубежом в тамиздате или здесь в самиздате. Нет, первая повесть Горенштейна — «Ступени» — выходит в самиздатском альманахе «Метрополь», где рядом с ним не прошедшие цензуру тексты Василия Аксенова, Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Виктора Ерофеева, Юрия Карабчиевского, Семена Липкина, Инны Лиснянской, Владимира Высоцкого — вот в этой компании он врывается в неподцензурную литературу. Вот после такого скандала уезжает и закрепляется в литературе эмигрантской.

Родион Нахапетов в фильме Никиты Михалкова «Раба любви». Сценарий был написан Фридрихом Горенштейном. 1975 год
За десять лет до падения тоталитарной империи Горенштейн сделал себе имя и вошел в перестроечную литературу уже не только автором сценария «Соляриса», но и как признанный писатель российского зарубежья. Его трехтомник, выпущенный в начале 1990-х издательством «Слово», осел чуть ли не во всех интеллигентных домах России.
О самом себе он не без гордости говорил: «Я — писатель незаконный». Определение странное, но точное. Потому-то и пишется о нем незаконно, неправильно. Вообще-то следовало в начале сообщить, что питерское издательство «Азбука» взялось издать всего или почти всего Горенштейна. Это не собрание сочинений. Серия. Вышли первый том с повестями «Искупление», «Попутчики», рассказом «Дом с башенкой» и мемуарным очерком Лазаря Лазарева, второй том с полным текстом романа «Место». Готовится к изданию том с философским романом «Псалом» и предисловием биофизика Григория Никифоровича, пишущего книгу о любимом писателе.
В четвертый том серии, пока условно названный «Перевоплощения», войдут «Зима 53-го года», «Ступени». Пятый будет посвящен пьесам и малой философской прозе. В шестом будут опубликованы кинороманы «Скрябин» и «Летит себе аэроплан» (о Марке Шагале). Седьмой — киносценарии.
Планируется и восьмой том, с последним, оставшимся в рукописи сочинением Горенштейна, названным автором «Веревочный роман». Горенштейн всегда писал от руки, писал и переписывал, а уже потом диктовал написанное машинистке. Как и положено много пишущим людям, почерк у него был плохо читаемый, так что «Веревочный роман» предстоит еще расшифровать, разобрать, расплести.
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.