[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ЯНВАРЬ 2010 ТЕВЕТ 5770 – 1(213)
МЕРА РОТКО
Жанна Васильева
Среди художников, показанных на выставке «Американские художники из Российской империи», которая недавно прошла в Третьяковской галерее, один из интереснейших – Марк Ротко. Знаменитый художник из круга «абстрактных экспрессионистов», легендарная фигура нью-йоркской школы, Ротко вошел в историю искусства ХХ века своими огромными полотнами (высота некоторых – почти три метра), построенными на контрасте двух-трех тонов.
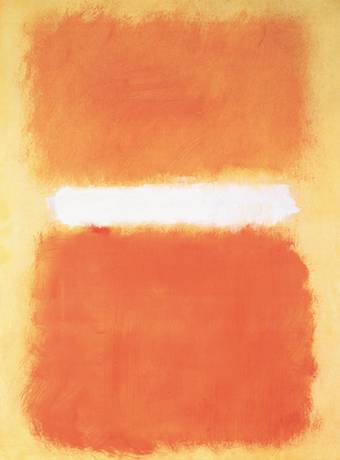
Без названия. 1968 год
Образцовый американец?
Гордость Америки, представлявший искусство Штатов на Венецианской биеннале 1958 года, приглашенный гость на инаугурации президента Джона Кеннеди в 1961-м, сидевший за столом рядом с отцом президента, почетный доктор Йельского университета, Марк Ротко на первый взгляд выглядит воплощением американского идеала. Человека, который сделал себя сам. В эту оптимистическую концепцию, правда, не вписывается трагический финал. Знаменитого, богатого, успешного 66‑летнего художника его помощник нашел январским утром 1970 года на полу кухни со вскрытыми венами и кучей проглоченных таблеток-антидепрессантов.
Но не только в финале дело. Ротко, который считал, что «единственным источником искусства является книга трагедии», меньше всего похож на человека, который выстраивал жизнь как восхождение к буржуазному успеху. Ровно наоборот, нельзя не подивиться, с какой настойчивостью уклоняется он от проторенных дорог, на которые подталкивают его жизнь и родственники. Правда, нельзя не заметить, что судьба тоже постаралась.
Начать с того, что Маркус Роткович, четвертый, самый младший, ребенок в семье аптекаря и фармацевта Якова Ротковича и его жены Анны Голдин, живших в Двинске (сейчас – Даугавпилс), был единственным, кого отдали в хедер в пять лет. Старшие дети получали светское образование. Причиной послужила, как ни странно, первая русская революция 1905 года. Точнее – последовавшие за ней еврейские погромы. И хотя тихий Двинск, слава Б‑гу, миновали ужасы убийств в Кишиневе и Белостоке, атмосфера страха была такова, что отец, до того настроенный радикально-революционно, обращается к вере отцов, начинает усердно посещать синагогу и отдает младшего ребенка в религиозную школу. В семье говорили на идише, иврите, русском. Русская культура, по-видимому, тоже была значима для семьи. По крайней мере, уже в зрелые годы художник вспоминал домашнее поминальное сидение – «шивах» – в память о Льве Толстом, судя по всему, в годовщину его смерти. Будущий художник получает неплохое религиозное воспитание за пять лет, которые предшествовали его отъезду в США в 1913 году. Отец и двое старших сыновей уехали двумя годами раньше. Маркус с матерью и сестрой Соней приезжают к ним в Портланд после почти месячного путешествия через океан, а затем через континент на Западное побережье Америки. Не успела семья порадоваться воссоединению, как семь месяцев спустя умирает Яков Роткович. Чтобы семья могла выжить, все дети начали работать, включая 11‑летнего Маркуса, который не только подрабатывал после школы в магазине дяди, но еще и продавал газеты. Даже несколько центов в семье лишними не были. Учился он при этом исключительно хорошо. В 17 лет, с отличием окончив школу, был принят в Йельский университет. Впрочем, стипендию дали только на год, и на втором курсе Маркус вынужден был оставить учебу.
В 20 лет прибыв в Нью-Йорк без гроша в кармане и подрабатывая как придется, он случайно забредает к приятелю в студенческую Лигу искусств (Art Students League), где попадает на штудии по обнаженной натуре. Позже он скажет, что мгновенно почувствовал: это и есть его жизнь. Что, разумеется, было преувеличением. Примерно в то же время Ротко пробует себя на сцене. Он страстно любил музыку – достаточно сказать, что в юности научился на слух играть на мандолине и пианино. В итоге Маркус выбрал живопись.
По сути это был безумный выбор. Прагматичная Америка до тех пор не слишком ценила художников. Как заметил историк американского искусства, художники столь же нежеланны в Америке, как тараканы в жилищах захватывавших Дикий Запад пионеров. В те годы ни один американский художник не мог жить на доходы от живописи. А те, кто попытался, едва не умерли с голоду: одно время Макс Вебер, за неимением лучшего, жил в помещении знаменитой Галереи 291. А Макс Вебер, между прочим, был первым живущим в Америке художником, удостоившимся персональной выставки в музее в 1913 году. В 1925-м Вебер вел курс натюрморта для всех желающих. Среди записавшихся к нему учеников был Маркус Роткович, который до того уже успел поучиться у Арчила Горки.
И Арчил Горки, и Макс Вебер были эмигрантами из России. Вебер к тому же происходил из еврейской семьи. Но вряд ли только сходство судьбы влекло к ним Маркуса. И Горки, и Вебер ориентировались не на американские традиции художников регионализма и социального искусства, которые поэтизировали суровый труд первопроходцев и будни миссионеров, рисуя портреты протестантской четы с вилами на фоне аскетичного домика или эпическую картину сбора урожая. Напротив, их привлекал европейский модернизм, который пуританская Америка воспринимала с подозрением. Макс Вебер, побывавший в Париже и увлеченный живописью Сезанна, фовистов, одно время учился у Матисса. Вероятно, Ротко, который в 1954 году посвятит одну из самых известных своих работ Матиссу и его «Красной комнате», унаследовал восхищение этим мастером от Вебера. Что касается Горки, то его интересовал сюрреализм. Гораздо позже автор манифеста сюрреалистов Андре Бретон назовет его своим духовным сыном. Наконец, и для Горки, и для Вебера искусство было движением к пределу – страстей, познания, человеческого существования. Эту страстность и бескомпромиссность художественного поиска, интерес к глубинам бессознательного, равно как и представление о древней профетической функции искусства Маркус Роткович унаследует у своих учителей.
Сам Маркус вполне осознает свой выбор жизненного пути как бунтарский. В знаменитом манифесте, напечатанном зимой 1948 года в журнале «Possibilibties», он напишет: «Недружелюбие общества к деятельности художника трудно принять. Тем не менее именно эта враждебность может стать рычагом для подлинного освобождения. Свободный от фальшивого чувства безопасности и общности, художник может отказаться от банковской книжки, так же как отказывается от других гарантий безопасности. Чувства общности и безопасности ищут опору в привычном. При свободе от них трансцендентальный опыт становится возможным».
Художественная свобода, поиск трансцендентального будут уживаться у него с антибуржуазным бунтом едва ли не всю жизнь. В 1934 году он окажется среди двухсот нью-йоркских художников, вышедших к Рокфеллеровскому центру, чтобы поддержать протест Диего Риверы, чью фреску на тему мировой революции с портретом Владимира Ленина посередке заказчик-миллиардер не оценил по достоинству. В 1960-м он разрывает 35‑тысячный контракт на оформление ресторана «Четыре сезона» в здании компании «Seagram» и возвращает задаток за два года уже проделанной работы, после того как имел неосторожность зайти вместе с женой пообедать в этом шикарном месте...
Похоже, точно так же мало, как заказы буржуа, его волновал эмигрантский статус. Сдается, он воспринимал его как почетный знак изгойства и отличия – весомый добавок к нелегкой свободе художника. Надо признать, заявления с просьбой о гражданстве он подавал нечасто: если первое было написано в 1924 году, то второе – в 1935-м. В общей сложности, не прошло и 14 лет, как Маркус Роткович получил американское гражданство. Тогда же, в 1938 году, он видоизменяет имя и становится Марком Ротко.
К тому времени за его плечами первая персональная выставка в Нью-Йоркской галерее современного искусства (1933 год); участие в группе «Десяти» (в которой, правда, загадочным образом было только девять членов, 1935–1939 годы); работа за 95 долларов и 44 цента в месяц во времена Великой депрессии в проекте «Work’s Progress Administration», созданном правительством для поддержки художников; преподавание рисунка и лепки для детей в академии, принадлежавшей еврейскому образовательному центру в Бруклине (с 1929 по 1952 год); первый успех на групповых выставках молодых американских художников в Париже…

Почитание Матисса. 1954 год
Вперед, к современности?
Начавшаяся война расставила точки над i. Как позже написал Барнет Ньютон, входивший в компанию будущих «абстрактных экспрессионистов»: «Мы чувствовали моральный кризис мира, который превратился в поле битвы, мира, опустошенного разрушениями жесточайшей мировой войны… Было просто невозможно рисовать, как раньше, – цветы, склоненные фигуры ню или музыкантов, играющих на скрипке…» В сущности, это то же ощущение, которое сформулирует Теодор Адорно: «Как можно писать стихи после Освенцима?»
Поворот, который происходит в творчестве Ротко, Ньюмана, Готлиба, – поворот в сторону античного мифа – отнюдь не был эскапизмом художников в башню из слоновой кости. Напротив, он был поворотом в сторону трагедии, осознаваемой как встреча человека с фатумом, со стихией безличного, беспощадного рока. Любимым чтением Ротко в то время становятся Платон и «Орестея» Эсхила, эпизоды которой он кладет в основу одной из своих серий.
Но не только отсветы апокалиптических ужасов второй мировой войны определяют восприятие античного мифа. Путеводной книгой в путешествии в древность и одновременно современность для Марко Ротко становится «Рождение трагедии из духа музыки» Ницше. Тогда же, видимо, формируется стремление Ротко поднять живопись до уровня музыки. Чтобы оценить дерзость этого намерения, стоит иметь в виду, что музыку немецкий философ рассматривает как высшее из искусств, которому открыт язык боли и восторга. Музыка несет дионисийское стихийное, темное, природное начало. Аполлон же покровительствует скульпторам и художникам, добивающимся совершенства формы. Понятно, что с точки зрения противопоставления культов Дионисия и Аполлона задача возвышения живописи до высот музыки выглядит практически невыполнимой. Это все равно что намереваться сохранить ледяную скульптуру в огне или построить здание из пламени. Неудивительно, что художник свои картины называет драмами.
Эту немыслимую цель Ротко сохранит на долгие годы. Достаточно упомянуть: в 1959 году при посещении Виллы Мистерий в Помпеях он скажет спутнику, что видит глубокую связь между фресками на вилле и собственной работой над стенными росписями для здания корпорации «Seagram»: «Все то же широкое использование мрачного цвета». Как заметит один из самых тонких исследователей цвета Ротко Джон Гейдж, это странное определение для довольно живого красно-оранжевого фона фресок и изображения процессии с музыкантами и участниками дионисийской оргии. Замечание Ротко бросает свет на то, что тема античности для него – это всегда тема не Аполлона, а Дионисия, не гармонии – а трагического диссонанса, не застывшего совершенства – а подвижной стихии страсти. Оно также раскрывает парадоксальную неоднозначность для него красного, оранжевого цветов.
Интерес к теме античности, трагедии продолжает еще довоенные поиски архаического, примитивного языка, которым можно высказать значимые для художника вещи. На этом пути он постепенно отказывается и от фигуративности, и от линии. В широко известном художественном манифесте, написанном Марком Ротко совместно с Адольфом Готлибом в ответ на разгромные отклики рецензентов на их выставку и опубликованном в «Нью-Йорк таймс» в июне 1943 года, художники заявляли: «Мы предпочитаем простое выражение сложных мыслей».
«Простота» потребовала от Ротко обращения не только к живописному опыту Матисса, но и к наследию Рембрандта. Рембрандта он ценил настолько, что даже курс актуального искусства, который вел в Бруклинском колледже в начале 1950‑х, начинал с разговора о великом голландце. Есть свидетельства, что он видел в Рембрандте своего рода альтер эго. Разумеется, не только из-за общности еврейского происхождения. Возможно, для Ротко были важны параллели судеб: Рембрандт тоже был четвертым ребенком в семье; как и Ротко, он единственный из детей получил основательное образование. И конечно, Ротко очень интересовал живописный опыт легендарного мастера. Как доказывал Джон Гейдж, Ротко использует тот же эффект насыщения цвета, который наблюдался в камере обскуре и который использовал Рембрандт. Цвет как бы выдвигается в пространство к зрителю, но его невозможно точно локализовать. Размытые мягкие контуры, полупрозрачные слои лессировки, отсутствие подчеркнутой фактуры создают почти кинематографический эффект восприятия. Ротко странность кинематографического эффекта еще и усиливал, самолично устанавливая освещение своих работ и добиваясь приглушенного света, граничащего с полумраком.

Ноктюрн. Драма. 1945 год
Пионер абстракционизма?
Ротко классического периода – это широкие цветные полосы, похожие на прямоугольные блоки, поставленные друг на друга. Они оставляют монументальное впечатление. Блоки эти лишены геометрической определенности границ, а цвет – однородности. Притом что плоскость холста не несет и намека на изображение, они производят дивный эффект: их хочется рассматривать, к ним тянет приблизиться, они останавливают зрителя. Может быть, отсюда рождается ощущение, что они способны тормозить время.
Сам Марк Ротко не любил ни описаний, ни объяснений своих картин. Говорят, он также терпеть не мог критиков вместе с искусствоведами, назвав их однажды под горячую руку «кучей паразитов на теле искусства». Что касается его собственных нечастых признаний, оброненных в интервью или оставленных в не опубликованных при жизни книгах, то они способны поставить в тупик.
Начать с того, что Ротко, один из столпов американского абстрактного искусства, напрочь отказывался признавать себя абстракционистом. «Любая картина, которая не создает мира, в котором может возникнуть дыхание жизни, не интересует меня», – заявлял он. Свои картины он называл «организмами, наделенными страстью к самовыражению». Неудивительно, что главным для «организма» становилось взаимодействие со зрителем. Причем автор рассматривал эти отношения не только как эмоциональные, но и как чувственные. «Переживание искусства сродни браку личностей, – сказал он однажды. – И в искусстве, как и в браке, отсутствие отношений является основой для разрыва». С этой точки зрения нежелание художника давать объяснения определяется, похоже, не только тем, что речь идет о невыразимом словами переживании, но и тем, что оно предельно личное, почти интимное.

Без названия. 1958 год
Вторая неожиданность: художник, отказавшийся от линии, знаменитый утонченной работой с цветом, растиравший по примеру старых мастеров нужный ему пигмент самолично, если того требовало дело, начинал негодовать, когда его называли «колористом», и даже заявлял, что, говоря так, критики вообще не замечают главного в его искусстве. Своему почитателю Дункану Филипсу, создавшему в начале 1960‑х в своем доме «комнату Ротко», единственными обитателями которой стали четыре полотна художника, мастер признался, что для него не цвет, а мера, масштаб имеют важнейшее значение.
Что касается масштаба, то с этим трудно спорить, учитывая размеры его поздних полотен. Но и тут не так все просто. Обычно считается, что большие полотна нужно смотреть, отойдя подальше. Для Ротко это было неприемлемо. Он считал, что лучший способ рассматривать его огромные двух-треххромные полотнища – это подойти к ним поближе. Некоторые даже говорят, что он упоминал расстояние в 18 дюймов (примерно 45 см). Что можно увидеть на таком расстоянии: фактуру холста, энергию мазка, оттенки краски? Похоже, для Ротко было важно не то, что зритель увидит, а то, что он почувствует. Так, при развеске работ на выставке в Чикаго в 1954 году он просил куратора повесить самую большую работу таким образом, «чтобы зрители впервые увидели ее с близкой дистанции, чтобы их первый опыт встречи с ней был бы оказаться внутри ее». Иначе говоря, этот художник, работавший с плоскостью картины и не интересовавшийся ни линией, ни объемом, интересовался прежде всего… пространством. Насколько важен для него был именно этот аспект, говорит история создания настенных полотен для экуменической часовни в Католическом университете в Хьюстоне. Этот заказ Марк Ротко получил от Доменика де Менила, возглавлявшего факультет искусств в Университете им. Св. Фомы. Начав с работы над холстами (и создав в своей нью-йоркской мастерской аналог пространства этой церкви), Ротко закончил тем, что предложил свою структуру здания, добился смены архитектора (кстати, человека вполне известного) в 1967 году и определил не только пространственное, но и световое решение часовни. Церковь эта была освящена и открыта для публики ровно год спустя после гибели Марка Ротко – 27 января 1971 года.

Интерьер часовни. Хьюстон
История эта – вполне в духе Ротко, который никогда не славился уживчивостью и покладистостью нрава. Но в данном случае она важна отнюдь не для понимания бескомпромиссности автора. Существеннее, во имя чего была продемонстрирована отчаянная готовность идти до конца. Очевидно, Ротко стремился создать для зрителя собственный мир – сакральное пространство с приглушенным светом и уникальным цветом, в котором встреча с непостижимым присутствием Б‑га будет пережита с полнотой личного, непосредственного опыта. Недаром куратор давней, 1961 года, выставки Ротко, проходившей в МоМА, Питер Селц, говоря о его картинах, сравнивал их с входом в египетские пирамиды и вспоминал путешествие Орфея в мир теней.
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.