[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2006 НИСАН 5766 – 4 (168)
Яблоки в меду
Иеудит Хендель

Иеудит Хендель родилась в 1926 году в Варшаве в религиозной семье. В 1930 году вместе с родителями прибыла в Палестину. Первый сборник рассказов молодой писательницы вышел в свет в 1950 году. Сборник этот стал событием и сразу выдвинул автора в первые ряды израильских прозаиков. Произведения Хендель, органически сочетающие реалистическую манеру с фантазией, во многом определили развитие израильской литературы. Ее книги не раз становились бестселлерами, были инсценированы и экранизированы, переводились на многие языки.
Тем летом я иногда ездила туда, и на этой неделе отправилась снова. Был знойный душный день конца лета. Временами налетали порывы горячего ветра – вдруг обдавали жаром и так же быстро опадали. Пыль стояла в воздухе. Я вошла в ворота. Вокруг было пусто. Ни души. Мне вздумалось немного побродить по дорожкам, и тут на другой стороне, за навесом, я увидела садовника, который стоял и разговаривал с молодой женщиной, понуро сгорбившейся на камне. Она слегка покачивала в такт своим словам головой, обрамленной пышным ореолом ярко-рыжих крутых кудряшек, которые в свете этого насыщенного пыльным суховеем дня сверкали, как маленькие огненные мячики.
Я уже сказала, что вокруг было пусто. Тщательно выметенные дорожки подчеркивали перспективу с ее ясными, четкими линиями. В тяжелом жарком свете всё казалось ярче, сияло резче, чем обычно, словно было подернуто тонкой розоватой пленкой, рожденной заботливым уходом и свежим поливом, помогающими воспрянуть притомившемуся цветению. Всё сверкало, будто покрытое блестящим лаком. Стояла полнейшая тишина. Даже вертушка-поливалка застыла в неподвижности. Но чем дальше я продвигалась в глубь сада, тем громче становились шорохи и бормотания, исходившие от крошечных влажных квадратиков зелени по сторонам дорожки. Шепоты и вздохи вскоре сменились мучительными скрежещущими звуками. Казалось, кто-то толчет под землей стекло.
Это случилось на самом красивом участке, на свежем цветущем участке ливанской войны, который был буквально завален букетами и венками, полон всевозможной растительности, цветов живых и искусственных – из бархата и тончайших листов меди, из обычной серой мешковины, из накрахмаленного тюля и марли, выкрашенной в ржавый цвет. Охраняли это изобилие длинные зубчатые кактусы со скипетрами сочных ветвей, похожих на маленькие сабли, и головками в форме топориков.
Женщина подняла лицо, спросила:
– У вас есть тут кто-то? – Подтянула к себе колени, не спуская с меня взгляда. Сказала: – У меня тоже. – Колени были плотно притиснуты к груди, она не отрывала от меня взгляда. Сказала: – Муж.
– Я понимаю.
– Да, муж.
– Я понимаю.
Теперь она сидела вполоборота ко мне.
– Муж, – повторила она в третий раз.
Стояла тишина. Взгляд ее был по-прежнему устремлен на меня. Бледные, очень светлые глаза выделялись на фоне широко раскрытых потемневших век, которые никак не соответствовали веселым огненным кудряшкам. Не знаю, может, из-за этой невероятной тишины я сказала, что иногда бываю здесь, но прежде никогда ее не видела.
– Да, я прихожу один раз в году... – У нее был очень низкий, почти мужской голос, почти бас, и говорила она так, словно продолжала недавно прерванную беседу. – И, как правило, выдается такой вот жаркий день. Хамсин. Всегда оказывается такой вот день. Хамсин. – Еще плотнее стиснула колени и прислонила к ним кожаную сумочку. – Я сижу тут одна. Иногда с садовником.

Я сказала, что повстречала его – садовника.
Она не сводила с меня бледных, широко распахнутых глаз, стремительным движением подняла руку, произнесла в раздумье:
– Я говорю с вами так, как будто мы знакомы.
– Может, и были когда-нибудь знакомы...
– Да, в другом рождении...
– Возможно.
Она усмехнулась, положила руки на колени и принялась разглядывать свои унизанные кольцами пальцы. Потом отвела взгляд от коленей и подалась ко мне, слегка подвинулась на каменном бордюре, окружавшем высаженные на крошечном клочке земли прекрасные цветы. Улыбнулась:
– Приятный человек этот садовник.
Солнце, как видно, слепило ее, упорно сидевшую к нему лицом. Она прикрыла один глаз – круглый, как глаз животного.
– Да, – согласилась я, – садовник – симпатичный человек.
Она сменила глаз: закрыла правый и открыла левый. Прищурилась, низко склонилась над камнем и расправила цветок кактуса, свернувшийся в комочек возле возвышения на плите. Как видно, заметила, что я читаю надпись. Даты.
– Нет-нет, я прихожу в день нашей свадьбы. Это и есть тот день, когда я прихожу сюда, – раз в году. – Теперь она говорила медленно, осторожно подбирая каждое слово: – Я не хожу в другие дни. Зачем мне приходить в другие дни?
Стояла тишина, и еще тише делалось в паузах между словами.
– Я уже сказала: это всегда выпадает на такой вот жаркий день. Впрочем, и тогда день был такой же жаркий. Тоже хамсин.
Она опять сдвинула колени, положила на них ладони и сказала, что невозможно говорить об этом.
– И не нужно...
– Да... Но когда подумаешь...
– Лучше не думать.
– Правда, лучше не думать. Да не всегда это удается. Ты понимаешь?
– Я понимаю. – Стояла тишина. Она слегка наклонилась, расстегнула молнию на сумочке, вытащила огромные серые очки и надела. – Поверь, этому можно научиться. И кроме того – время... – Я не придумала, что бы еще прибавить.
Она закрыла молнию и поставила сумочку на прежнее место на камне.
– Да, время... Ты веришь, что время?..
Я видела ее почерневшие веки, медленно опадающие и мгновенно снова взлетающие за стеклами громадных очков. Внезапно она сняла очки, выпрямилась, огляделась, медленно вращая голову, словно смотрела из окна поезда.
– А пока всё так живо, проходят годы, а всё так живо, – пожаловалась, оборачиваясь ко мне.
Слово «так» отразилось от камня, раздвоилось эхом в пустом саду, ударило, словно воздушный молот; я ощутила тяжесть в голове и настойчивое желание заткнуть уши. Мне показалось, что именно это она и сделала, но тут ветер отбросил назад ее волосы, обнажил уши, оказавшиеся неожиданно такими маленькими, совсем маленькими, как у девочки. Глаза медленно двигались, блуждали по саду, словно следили за кем-то, скрывающимся позади ограды. Я подумала – нужно что-то сказать, но не знала что. Свет сделался еще более тугим и низким. Небо – купол без дна. Кусты роз и хризантем в прекрасном саду пылали, как ярко наряженные огородные пугала. Я хотела сказать, что есть многие формы жизни, и что-то насчет продолжительности дня и продолжительности ночи, и что простая истина смерти и одиночества так элементарна, так понятна, особенно когда она исходит из земли и втекает в тебя, поднимается по твоим ногам от ступней выше, выше... Вдруг вспомнила старинный обычай – как женщины обмеряли могилу любимого нитью, а потом складывали и скручивали эту нить, пропитывали и обмазывали ее воском, делали из нее свечку, которую ставили в жестяную кружку, и этот длинный тонкий светильник горел всю ночь в жестяной кружке, в память о любимом, и нельзя было, чтобы ветер задул свечу в кружке... Я хотела рассказать ей что-то об этих кружках, но она сидела притихшая и слабыми неторопливыми движениями, словно окончательно обессилев, запускала пальцы в волосы, метавшиеся по шее из стороны в сторону.
– Да, – сказала она вдруг, – так-то...
Волосы были собраны теперь на затылке, и руки снова опустились на колени. Глаз не было видно, только стекла очков. Она рассеянно улыбнулась, сняла очки, снова прищурила один глаз, как будто всё больше страдая от ослепительных лучей. Действительно, было очень жарко. Воздух сделался тяжелым, приобрел серый оттенок, подчеркивающий сухость горячего ветра, налетавшего из неведомо каких просторов и накрывшего этот чистый, аккуратно выметенный сад тучей пыли. Чувствовался слабый запах пепла и суховея, каменные плиты выглядели напрягшимися и готовыми треснуть. Аккуратные дорожки наполнились прожилками свинца, и визгливый голос надтреснутых флейт кружил, словно заблудившийся в громадной пещере. Сидевшая против меня женщина плотнее притиснула ладони к коленям, как будто хотела сказать: тихо! Тихо! Но звук разбитых флейт только усилился, листья кустов свернулись в жухлые полоски бумаги, раскидывающие вокруг себя сухие оборванные лепестки, взъерошенные, как хлопья овсянки, и я заметила мелкую дрожь ее рук, боязливо трепетавших на коленях. Мне снова показалось, что она хочет что-то сказать, но я не расслышала что и только смотрела, как она поглаживает обеими руками колени. Звук разбитых флейт приблизился еще, свет сделался совсем низким, будто придавленным, и в этом мутном низком свете камни зашевелились, заколыхались, как занавески, нарушая всю эту странную строгую архитектуру, методично поделенную на равные куски, превратились в одну густую кашицу, расплескавшуюся над цветастым брожением, над трещинами в земле, добросовестно обтесанные и отшлифованные плиты скорчились в мучительной гримасе, дорожки, номера, указатели, надписи на перекрестках и сломанные стрелки смешались, поплыли, и уже невозможно было опознать ни одного участка. Розы выглядели оттиснутыми из пластика, трава наполнилась шевелением суховея, и даже когда ветер унесся так же внезапно, как и появился, в воздухе еще плясали черные надписи на плитах. Спустя мгновение всё исчезло, видна была только одинокая молчаливая женщина, усталая согбенная женщина в утомленном саду, руки ее по-прежнему лежали на коленях, она сидела неподвижно в полнейшей тишине.
Открыла глаза и взглянула на меня с выражением какой-то особой доверительной близости. Сказала:
– Мне везет, никто никогда не приходит в этот день, я всегда одна тут.
– Это действительно приятно, – откликнулась я.
– Да, приятно. Но я всегда боюсь, что кто-нибудь вдруг возьмет и явится. Однако, видишь, Г-сподь бережет меня, пока что этого ни разу не случилось, я всегда одна, прихожу и сижу себе здесь одна.
Она не сводила с меня глаз, и с лица ее не сходило выражение той исключительной дружеской близости, которая возможна лишь между чужими.
– Тебе не мешает моя болтовня?
– Нет, Б-же упаси! – сказала я. – Мне приятно слышать твой голос.
– Иногда, ты знаешь... – сказала она.
– Конечно, конечно, я знаю!
– Просто, когда сидишь вот так и смотришь...
– Да, я понимаю.
Она изменила положение рук, слегка переместила ладони и спросила, не тороплюсь ли я. Я сказала, что нет, не тороплюсь, у меня есть время, много, много времени. Она сказала:
– Я рада. – И прибавила: – Иногда, ты знаешь... так хорошо побыть в одиночестве.
Свет падал на ее лицо, по которому струились два извилистых ручейка пота. Время от времени она обтирала их ладонью.
– Ничего особенного. Просто так, поговорить... – Она болезненно улыбнулась. – Тебе это знакомо...
Я сказала, что, конечно, знакомо. Она снова печально улыбнулась.
– Мы почему-то всегда думаем, что всё случается у других. И даже когда это случается у тебя, всё равно как будто у других...
Лицо ее теперь было опущено в ладони.
Поднялся какой-то шум, камни завертелись, закрутились, будто побивая кого-то, она отняла ладони от лица, раздвинула их, выпрямилась, взглянула настороженно, сняла очки, но тотчас водрузила их обратно и несколько раз поправила, словно не находя верного положения. Руки у нее были длинные и красивые, смуглые, загорелые, я смотрела на эти прекрасные руки в широких медных браслетах и кольцах – по кольцу на каждом пальце, иногда даже по два, она вскинула руки, браслеты соскользнули к локтям, слились в одно широкое, вытесненное из медного листа кольцо. Она улыбнулась, вернула браслеты к запястьям и взглянула на меня сквозь поблескивающие стекла очков. Потом наклонилась и достала из-за возвышения на плите вазу из голубого хевронского стекла, пробормотала что-то насчет красоты стекол и спросила, нравится ли мне ваза. Я сказала, что очень. Она сказала, что хотела принести сегодня цветы из бархата, потому что вообще-то она очень любит мастерить цветы из бархата, и еще из-за того, что живые цветы слишком быстро вянут, в такой зной от них уже завтра ничего не останется, а она приходит всего раз в году, и я сказала:
– Да, это так.
Она откликнулась:
– Да, это так. – Замерла на минуту, поправляя очки, которые поблескивали теперь, как два жестяных кружка. Вздохнула: – Что делать, это так... – Глаза ее загорелись каким-то странным огнем, она встряхнула головой, провела рукой по шее.
Я снова посмотрела на ее руки, на браслеты, которые при каждом движении меняли положение и, сталкиваясь, глухо позванивали медным звоном. Это были очень красивые браслеты, и я заметила, что все они украшены камнями, каждый другими, один – желтым солнечным янтарем, другой – красным сердоликом, третий – бирюзой, четвертый – мелкими голубыми аквамаринами, пятый – розовыми кораллами, как будто это была выставка образцов камней и браслетов.
Она сказала:
– Я вчера совсем уже было собралась приготовить печеные яблоки, каждый год я собираюсь приготовить их и всё-таки не делаю этого. Печеные яблоки... – Что-то захрипело и заклокотало у нее в горле.
Я сказала, что это в самом деле замечательная вещь – печеные яблоки. Она добавила:
– С изюмом и орехами, ты ведь знаешь.
Я сказала, что это в самом деле замечательно: с изюмом и орехами.
Она вспомнила:
– И корицей.
– Разумеется, и корицей. И чтобы сахар немного запекся и подгорел – это очень вкусно, когда сахар немного подгорит.
Она слегка подвинулась на камне и сказала:
– Мы не добавляли меда, но он называл это «яблоки в меду». – Она говорила теперь очень тихо, затененные темные веки влажнели от слова к слову.
Я сказала, что тоже делаю это иногда, особенно в конце лета. Она спросила, почему именно в конце лета. Лицо ее напряглось и сделалось чужим и хмурым, а я не могла объяснить, зачем сказала это и почему именно в конце лета. Чувствовала, что следует как-то успокоить ее, но не знала как и сказала, что лучше всего запекать гранд-александер, я всегда ищу гранд-александер. Она внимательно слушала, и я прибавила, что обязательно нужно срезать полоску кожуры по кругу, чтобы яблоко не лопнуло в духовке. Она продолжала молча слушать. Волосы ее снова растрепались и развевались под ветром из стороны в сторону, она приглаживала их ладонью и собирала на макушке, потом запустила в них обе руки, отделила одну прядь и принялась накручивать ее на палец. Вздохнула:
– Действительно жарко...
Лицо ее было влажным и она обтирала его рукой, по нескольку раз проводя ладонью от лба к подбородку. Потом опустила руку в кустики цветов и обтерла о листья. Голова ее слегка покачивалась, и на минуту мне показалось, что она задремала. Я думала о цветах, накапливающих воду в стеблях и отращивающих длинные острые колючки, чтобы защищаться. Вдруг вспомнила об одном приятеле, который просил похоронить его под любимым кафе, под тем самым столиком, за которым он постоянно сидел, а когда ему сказали, что вынуждены будут сделать это в другом месте, испугался и воскликнул: «Как же я буду жить в другом месте? Под моим столиком, под моим столиком, можно даже поломанным, пускай! Даже под совсем развалившимся, тоже нормально. Даже если от него останется только одна ножка...»

Я обвела взглядом это странное кладбище, надгробия и зеленые цветущие квадратики в каменных обрамлениях. В пустом дурманящем воздухе плясали черные буквы и белесые пятна камней, плиты двигались и елозили во всех направлениях, а она сидела. Ветер по-прежнему трепал ее волосы, она прижимала их к затылку, потом нагнулась, торопливо открыла сумочку и также торопливо закрыла. Наверно, вытащила заколки, потому что принялась усмирять свои блестящие извивающиеся локоны и занималась этим довольно долго, они снова и снова выскальзывали из-под ее рук и падали на шею – как видно, заколки были недостаточно прочными и крепкими, чтобы удержать эти упругие огненные шары. Она сломала какую-то ветку, понюхала, а потом воткнула в копну волос. Сломала еще одну и протянула мне. Я почувствовала пряный сладковатый запах нежной молодой древесины. Она вытащила ветку из волос и легонько провела ею по своей щеке. Я сказала, что у нее очень красивые волосы и руки тоже красивые. Она усмехнулась:
– Браслеты. Ты имеешь в виду браслеты.
Я сказала, что браслеты действительно очень красивые. Она еще немного подвинулась на камне.
– Каждый год он приносил мне браслет, это был его подарок ко дню нашей свадьбы. – Ее низкий, почти мужской голос вдруг надломился и зазвенел, как часы, упавшие на камень. Она выпрямилась, напрягла спину. – Но я не ношу их. Только когда прихожу сюда. – Она замолчала и покрутила в воздухе кистями рук. – Он очень любил мои руки в браслетах, хотел, чтобы они всегда были у меня на руках. Поэтому когда я прихожу сюда... – Глаза ее сделались огромными, желтыми, как у совы, и неподвижными.
Я представила себе, как вечером она снимает браслеты, один за другим, и кладет их на стол – рядком, по порядку, а утром возвращает на руки, смотрит на них и понимает, что нескольких недостает, передвигает по руке и подсчитывает те, недостающие.
Шея ее была вытянута вперед, она сидела и смотрела прямо перед собой.
– Это первый, от первой годовщины, – указала на тот, который располагался ближе всего к локтю, с крупным желтым янтарем. Дотронулась до камня пальцем и несколько раз погладила его.
Я сообразила, что они расположены по годам, что ко второй годовщине он купил ей браслет с красным сердоликом, потом с бирюзой, потом с голубыми аквамаринами, потом с розовыми кораллами, и попыталась угадать, что бы он подарил ей к следующей, шестой годовщине. Лицо ее по-прежнему было лишено всякого выражения, по-прежнему одни только глаза жили на нем. Мне пришло в голову, что и она размышляет сейчас о том же. То же самое, конечно, она делала и утром: подошла к зеркалу и стояла, смотрела на свои руки, и из зеркала на нее смотрели янтари и бирюза, стайка голубых аквамаринов и розовые кораллы, и даты путались и никак не складывались у нее в голове, годы мешались и рассыпались, она подсчитывала годы, и я вдруг перестала видеть ее, остались лишь браслеты – сжавшиеся, узкие, стиснувшие ее руки, словно наручниками.
Она повернулась ко мне и издала какой-то звук, который можно было бы принять за смех, но это был не смех.
– Обычно, я уже говорила, у меня ничего нет на руках, весь год я хожу без ничего. – Сказала и опять усмехнулась.
Я еще раз повторила, что у нее очень красивые руки, и они наверняка прекрасны и без браслетов. Попыталась представить себе, как они выглядят без браслетов, но это никак не удавалось. Медь сияла и жгла мне глаза, колола, словно иголками, я чувствовала боль в глазах. Я уже не видела ее рук, только браслеты, поочередно охватывающие то одну, то другую руку, запястья, предплечья, грудь, живот, она сидит, вся окованная ими, будто внутри огромного медного котла. Нет-нет, сказала я себе, это тишина, слишком много тишины, слишком яркий свет, невыносимо яркий свет. Как они сверкают, браслеты, в этом ослепительном свете, и как она нарядилась и украсилась ради него, жив он или мертв, украсилась для него, какое красивое платье надела ради него, и, возможно, даже голову вымыла утром ради него, волосы ее блестят такой чистотой, таким свежим блеском, и, погляди-ка, как они развеваются, как горят огнем, возлежат драгоценной короной у нее на голове – ради него.
Она сказала:
– Колец я тоже не ношу. И колец тоже...
Я попыталась представить ее пальцы без колец. Ногти ее были покрыты перламутровым лаком, и я подивилась, какими нежными и ухоженными выглядят эти ногти. Вдруг вспомнила рассказ о яблоках в меду и их скромном ежегодном празднике.
Она сказала:
– Он говорил, что к нашей десятой годовщине подарит мне браслет с гранатами.
Я попыталась угадать, когда должна была наступить десятая годовщина. И что он купил бы ей в девятую, восьмую, седьмую... Но иглы, всё те же иглы кололи мне глаза. Янтарь смешался с бирюзой, аквамарин с кораллами. Я сказала себе: нет-нет, просто сегодня такой свет, невозможно сидеть под таким светом. И еще сказала себе, что это именно то, что она делает сейчас: пытается угадать, что бы он принес ей в седьмую, восьмую... Девятую, восьмую, седьмую... Как и я, она ведет этот обратный отсчет. Этот краткий отсчет, говорит она себе, с каждым годом будет расти, а браслеты будут сжиматься, счет расти, а браслеты сжиматься, пока наконец не сожмутся, не высохнут и руки. Но сейчас она сидела и задумчиво играла браслетами, которые, сталкиваясь, издавали особенный медный звук, глухой металлический стон: дин-дин-дон... Дин-дин-дон...
Мне показалось, что мы уже встречались с ней однажды на углу нашей улицы, но теперь я не узнала ее – тогда руки ее были голы, вот я и не узнала ее, я сказала себе: нет-нет-нет, только не это, это не она, это свет, невозможно при таком свете... Это ошибка, всё одна сплошная ошибка, а браслеты уже плясали, крутились по саду, смешиваясь с прекрасным свежим цветением, с черными буквами и белыми пятнами света на камнях, и кольца тоже плясали и крутились, и я вдруг вспомнила: пусты они, пусты от всего, ничем не наполнены, и дом его пуст, и душа его пуста, и молитва его возвращается без ответа. Не возвращай меня с пустыми руками! – вспомнила я. О, не возвращай меня с пустыми руками, не приходи ко мне с пустыми руками! И сказала себе: нет-нет, это воздух, слишком плотный воздух, он сжимается, и от этого все бредут в нем безгласные и опустошенные... Почему я вспомнила это? Где я это слышала? Много лет прошло с тех пор, как я слышала это, бедные и опустошенные уходите вы, да, я слышала это, я была маленькой девочкой, когда слышала это, это всегда было летом, мама снова и снова бормотала эти слова. Наш барак стоял напротив мусульманского кладбища, окна были распахнуты, я боялась кладбища и просила: давай закроем окна, но она говорила: это не окна, это не оттого, что открыты окна, это колокол, он пустой внутри, он гудит пустотой...
– Что-то случилось? – спросила женщина.
Она снова играла веткой, которую держала в руке, и я сказала, что устала, и вообще, поздно уже, пора идти... Она улыбнулась:
– Конечно, конечно. Если придешь на следующий год, найдешь меня здесь.
Она выглядела такой умиротворенной, притихшей – само спокойствие, и я пообещала, что запомню дату и приду, конечно, конечно, приду. Поскольку она ничего не ответила, я сказала, что день в самом деле очень жаркий, и этот ветер... Вообще-то я хотела прийти вечером, но побоялась, что будет закрыто.
Она продолжала играть веткой, не отрывала ее от лица.
– Кладбище не закрывают, – сказала она.
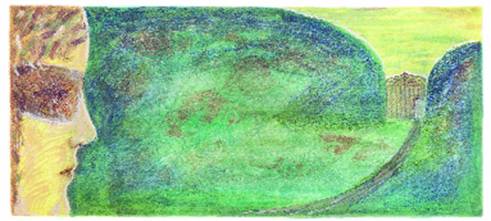
По дороге к воротам я увидела садовника, он складывал под навесом свои инструменты – мотыги и лопаты, запасные насадки на краны и целую кучу свежих саженцев. Улыбнулся, когда я спросила о ней.
– Приходите на следующий год, она будет здесь. – Запер неторопливо калитку в решетчатой ограде под навесом. – Она всегда приходит в это время, каждый год.
Перевод с иврита Светланы Шенбрунн
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
E-mail: lechaim@lechaim.ru