[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ НОЯБРЬ 2004 ХЕШВАН 5765 – 11 (151)
Тавро
Нишл Эстис
Николай Эстис – знаменитый художник. О нем, о его картинах и композициях пишут искусствоведы. Мы же сообщим от себя, что настоящее имя Николая Александровича – Нишл Шлемович (Ниссон Соломонович). Родился на Украине, в городе (местечке) Хмельнике, Винницкой области. Нынче живет в Германии. И, навещая любезное Отечество, полсрока проводит в Москве, а полсрока – на «малой родине».
Мы позвонили художнику по московскому телефону, да, видать, промахнулись – перепутали номер.
– Что? – благодушно зарокотала трубка. – Какого Николая Александровича?.. Эстиса? – И засмеялась с окончательным благодушием. – Не-е-ет, наша фамилия попроще!
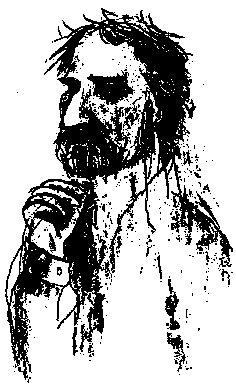
Л. Шульгина. Портрет Н. Эстиса
1993. Тушь, перо, бумага.
О том, что я хочу быть художником, и только художником, в нашем местечке знали все.
– Вы уже слышали?
– Шо такое?
– Ой, из такой хорошей семьи... Бедная Полина Львовна!
– Нет, она того не допустит – она ж учительница!
Равнодушных не было. В едином порыве пытались спасти, урезонить, уговорить. Исчерпав доводы и резоны, моя измученная мама пришла в отчаяние:
– Сынок, художники... они же вечно... в рваных носках...
Мне тотчас представилась растянувшаяся до горизонта колонна профессиональных мастеров кисти: античные ваятели, титаны Возрождения, малые и большие голландцы... гонимые и приласканные, нищие и даже безумные... Брюллов, Репин, Левитан, Врубель... Леонардо да Винчи, Рафаэль, Рембрандт... голубка Пикассо... Много итальянцев, евреев и, конечно же, представители изобразительного искусства СССР, сплошь из братских республик, включая автономные...
Одежда их столь причудлива и необычна... даже шесть лет спустя на Всемирном московском фестивале (1957) ничего подобного не наблюдалось... Но разношерстное это шествие мечено одной меткой – неотвратимым, неизгладимым клеймом. Каждый – от полудиких авторов наскальных рисунков до элегантных прославленных современников – каждый без обуви. В рваных носках.
Мелькают голые пятки – то розовые, то иссиня-черные, то пухло-округлые, то уродливо-мозолистые. Кое-где, сквозь истлевшую ткань, плотоядно торчат ничем не прикрытые ступни, и дерзкие, вызывающе обнаженные большие пальцы всевозможной величины и формы нахально вдавливаются в плодородную хмельницкую (с ударом на «е») почву.
Если моя сердобольная мама вздумает залатать те прорехи и дыры и в качестве депутата, пользуясь высоким положением председателя женсовета, соберет для этой, теперь бы сказали, гуманитарной акции местечковых женщин, – даже младшим школьницам не хватит их долгой жизни, дабы исполнить такую работу. То будет вечный каторжный труд. Из поколения в поколение.
И тут внезапная догадка ошеломила меня:
– Мама! – закричал я. – Ты видела живого художника?!
Но мама честно призналась:
– Нет, никогда.

Н. Эстис. Портрет мамы
1987. Карандаш, акварель, бумага.
Да, художника, как такового, никто в Хмельнике не видал. Он и поныне вроде бы там не появился. А тогда растравлял местечковое воображение. Как существо мистическое, мифическое, порочное и непотребное. Плюс рваные носки – общепринятый символ богемы и нищенского существования.
Тогда же я дал себе слово, произнес страшную клятву: буду художником в целых, даже не штопаных носках.
Еще в училище, обуваясь и разуваясь, зорко приглядывался, проверял на ощупь, не прорывается ли на волю нагловатый студенческий ноготь... И тревога не покидает меня до сих пор.
На протяжении всей творческой жизни я старался внести скромный, но не совсем заурядный вклад в сокровищницу мирового искусства: каждодневно и неусыпно, строго и непредвзято следил за состоянием самой, простите, почвенной, самой близкой к земле, самой хрупкой части нашего туалета. Мне удалось порвать зловещую нить, прервать роковую неизбежность и отвести, наконец, проклятие, зависшее над художниками. Никто из моих придирчивых зрителей или верных поклонников не видел на мне хотя бы один, хотя бы с единственной дырочкой, рваный носок... в то время как рваные брюки, рубаха, ботинки, свитер или фуражка и посейчас украшают меня, нисколечко не смущая.
Краткой маминой фразы хватило на то, чтоб осветить путь: истинный художник верен себе, своему слову и предназначению.
Носки, если угодно, были надстройкой – башенкой, венцом базисного сооружения с нерушимым фундаментом: художники бедны и развратны. У них – что известно любому хмельничанину – нет постоянной работы, нет оклада-жалованья и деньги водятся от случая к случаю.
Справедливости ради надо сказать, что я, семиклассник, уже зарабатывал. Каждый год в марте Горторг заказывал мне шрифтовые плакаты следующего содержания:
С 1 АПРЕЛЯ 1950 ГОДА (51, 52) ЦЕНЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ СНИЖЕНЫ!
Два слова «цены» и «снижены» – красной тушью и крупно.
Комната, кухня, сени и даже не распиленные дрова торжественно покрывались черно-красными листками – я гнал тираж. Волей-неволей пропускал школу... Но когда моя продукция заполняла убогие магазинчики, висела на покосившихся столбах и чахлых заборах, я испытывал не только радость творца, но и гордость законодателя, по личному распоряжению которого на 0,34% дешевели гвозди.
Счастливое население сбегалось к прилавкам, а мой папа с чувством собственного достоинства, никогда его, кстати, не покидавшим, расписывался в ведомости за причитающиеся нам суммы.
Накануне революционных праздников – 1-го Мая и 7-го Ноября – местный фотограф со звонким именем Яша Сребницкий, виртуозно писавший лозунги на красном полотне, приглашал меня в помощники.

Н. Эстис. Из цикла «Птицы»
1996. Холст, масло.
Разворачивалось настоящее производство. Как только выходили «Правда» и «Правда Украины» с Призывами ЦК ВКП/б/ и КП/б/У, буквально все предприятия, мелкие хозяйства, цеха, ближние и дальние колхозы свозили к Яше сотни погонных метров красного полотна и те газеты, где птички-галочки угнездились и прикорнули подле необходимых лозунгов.
Яша Сребницкий никому не отказывал. Опускал задаток в широкий выдвижной ящик платяного шкафа, и мы трудились, не поднимаясь с колен, дни и ночи. Важно не перепутать слова. То русский текст, то украинский. То «трудящиеся», то «працивныкы». То «колгоспныкы», то «машиностроители». То «славные воины», то «народна освита». Не допустить ошибок и твердо знать, кто сколько завез полотна.
Оно растягивалось на полу или натягивалось на подрамники из кривого, неструганого и занозистого горбыля. Вытаскивала занозы и варила на примусе зловонный столярный клей жена Яши Сребницкого – тетя Рузя, дородная и вполне симпатичная. Была бы совсем красивой, когда бы не постоянная забывчивость, отчего нижняя тети Рузина челюсть существовала в некотором отчуждении от верхней, а блуждающие глаза не находили порой верного направления.
При взгляде на тетю Рузю возникало впечатление, что она потеряла что-то самое главное и все время пытается найти. Но где потеряла? И когда? И потеряла ли вообще?
В судорожные предпраздничные дни состояние глубокой задумчивости соперничало с чувством глубокого страха. Тетя Рузя беспокоилась, успеет ли ее Яша этой гадкой смесью зубного порошка со столярным клеем написать тысячи и тысячи букв, что складывались в конце концов в малопонятные магические заклинания, ожидая которые выстроились вдоль забора возы и телеги. Полон дом людей. Нервничают парторги, ездовые, лошади...
То сосущее под ложечкой чувство мучило, очевидно, и Яшу. Иглой в сердце вонзался зловещий вопрос: а ну не управлюсь?.. И сорвется важнейшее политическое пиршество, и не занавесится вся местечковая округа – от проводов до деревьев – безразмерною кумачовой лентой с белыми буквами, и не пронесет райзаготскот или укрцукор свой отраслевой лозунг на первомайской демонстрации... Нет-нет, страшно подумать!
Прибегала взволнованная и рассеянная тетя Рузя. Глаза устанавливала на мне, а верхнюю губу – на мамином ухе. Шумно, без пауз, шуршала и шелестела:
– ВЫШШ-ПОНИМАЕТЕШШ-ПОЛИНАЛЬВОВНА-ЭТОШШ-КОШШМАР... ТИХИЙУЖАС-ШШОМОЖЕТБЫТЬ-ВЫШШПОНИМАЕТЕ...
Мама, конечно, понимала. Отзывчиво качала головой. И это значило: я должен срочно собираться к Яше и дома, как и в школе, объявлюсь нескоро.

Н. Эстис. Воспоминания
2001. Тушь, перо, бумага.
Френчик
Мы оба жили на Республиканской: я – в конце, а он – на углу, напротив аптеки. Семья Изи Симецкого занимала две маленькие комнаты и множество холодных темных сеней, коридоров, тупичков. Глухие дощатые ставни прятали косые окошки, низко висевшие над тротуаром.
К дому примыкал огороженный пустырь – свалка так называемого утиль-сырья. Бесформенные груды расползались по двору, перетекали в нежилую часть дома, а зимой – и в жилую (наверно, для утепления).
Отец Изи – дядя Моисей, попросту Мойша Симецкий, подобно героям Шолом-Алейхема (и сам, в сущности, один из них), – чем только не занимался, чтобы прокормить семью. Но в моих детских воспоминаниях прочно утвердился утиль – горы страшной послевоенной рухляди, тряпья, искореженного железа – то, что за гроши сносили Мойше горемычные люди, а он двигал свой (и государственный) нехитрый гешефт, крутясь и выживая. Профессия называлась «шмоты-калошник». Говорили, что в денежную реформу 1947 года трясущийся Мойша обменивал лежалые плесневелые купюры весьма и весьма солидного достоинства...
Он был (в моем детстве) единственным молящимся евреем. Имел книги на непонятном языке и даже читал их. Его постоянное бормотание и раскачивание мы, по причине малолетнего невежества, воспринимали как ненормальность, стыдливо хихикая в кулачок. Да и взрослые полагали, что Мойша – с тараканами. Как тогда говорили, «малахольный».

Н. Эстис. Трое
1996. Холст, масло.
Изю частенько запирали, принуждая учиться еврейской грамоте, отгородив ставнями. То была страшная тайна. Но мне доверяли. Я, как и дядя Мойша, был единственным – единственным мальчишкой, кого пускали в дом, сдвигая засовы.
Семья Симецких жила в постоянном страхе – боялась любого нееврея. Все у них казалось смещенным и причудливым: жутковатое жилище с потусторонними недрами, встревоженные птичьи взгляды, невротическая дяди Мойшина привычка крутить нам уши в состоянии молитвенного экстаза...
Еще сильнее поражался я тому, что в стакан горячего чая погружал дядя Мойша столовую ложку, с верхом наполненную сливочным маслом.
У Изи была сестра Ната, десятью годами моложе. Когда мы стали первым выпуском русской (не украинской) школы, она пошла в первый класс. Маленькая Ната почему-то без конца причесывала меня, забираясь на колени и на спину... Изя не позволял себя причесывать да и вообще на такие глупости не отвлекался.
Внешне весьма своеобразен. Смуглый. С желтоватою кожей. Смоляными волосами на длинной, вытянутой к затылку голове. Про яйцеголовых умников узнал я гораздо позже. Но Изя, безусловно, один из них. Прообразом его головы стало диагональное яйцо какой-нибудь неведомой, экзотической птицы.

Н. Эстис. Из цикла «Птицы»
1999. Холст, масло.
Как многие взрослые и дети, Изя носил френчик грязно-зеленого цвета, на манер военного, со стоячим воротничком, застегнутый наглухо под самым подбородком двумя жесткими металлическими крючками.
Изя был математик. Но задачи, уравнения и формулы представлялись мне марсианскими тайнами, разгадывать которые я вовсе не стремился. Вдобавок Изина тетрадь, где одно непременно равнялось другому, а из возведенного в степень извлекался зловредный корень, – тетрадка по алгебре была к моим услугам. Я же помогал ему с сочинением, исправляя ошибки и пересказывая содержание изучаемых произведений.
Сверх того, тетя Броня – Изина мама – не в силах была поднять Изеньку по утрам. Черноволосая макушка зарывалась под одеялом, телогрейкой и утилем. С испуганным лицом не умел Изя по собственной воле покинуть теплое убежище и ждал меня. Я разгребал ветошь.
– Встаю, встаю! – верещал он. – Никочка, не надо, не надо никуда нажимать... уже вылезаю! – И выползал из своей норки, к моему извечному удивлению, все в том же зеленовато-буром френчике на двух крючках.

Н. Эстис. Ожидание
2000. Холст, масло.
Я конвоировал Изю в холодные сени. Нельзя было выпустить его из рук, чтобы снова не завалился в тряпье, разбросанное повсюду. Применялись жесткие меры физического воздействия: умывание для Изи невыносимо. Медленно подходил к рукомойнику. Замирал на расстоянии полуметра, в «шаговой доступности». Трогал металлический носик. Чуть приподнимал, как бы смачивая пальцы. Проводил по глазам и с криком «уф-уф!» убегал. Тут моя власть кончалась.

В их семье воспринимался я, очевидно, как человек физического склада и предназначения. Тетя Броня не скрывала своего восхищения (то ли мной, то ли Изей). Стояла в дверях – толстая, улыбчивая, созданная для хорошей жизни: ходить на базар, печь «вкусные вещи», кормить и холить детей (чем в меру сил и занималась).
В мои обязанности входило два-три раза в год любыми способами затащить Изю в баню. Отца его – дядю Мойшу Симецкого – никто и никогда там не видел. Наверное, не позволяла застенчивость. Но как еще вымыться в Хмельнике?!
Когда мы оказывались в бане и, расстегнув френчик, обнажали Изино тело, обнаруживалась девственно белая кожа. Только лицо смуглое и желтое. Яйцеобразная голова отрезана воротничком, точно бритвой. Вспоминался жуткий роман Беляева «Голова профессора Доуэля» или целый стеллаж реконструированных черепов известного антрополога Герасимова.

Н. Эстис. Из цикла «Фигуры»
1998. Холст, масло.
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
E-mail: lechaim@lechaim.ru