[<< Содержание] ЛЕХАИМ НОЯБРЬ 2003 ХЕШВАН 5764 – 11(139)
ГОЛОС КРОВИ
Бенедикт Сарнов

Заседание Всемирного Совета мира. Выступает Фредерик Жолио-Кюри, председатель этого Совета.
Как я уже писал, Эренбург, уговаривая своего друга Пабло принять Ленинскую премию мира, не просто «выполнял поручение». Он при этом искренне верил, что, действуя таким образом, пусть на какой-то микрон, но все-таки укрепляет позиции всего живого, талантливого в несчастном нашем, замордованном чиновниками искусстве.
Так же искренне гордился он тем, что «лучшие люди планеты», цвет интеллектуальной элиты всего человечества – тот же Пикассо, Жолио-Кюри, Джон Бернал, Арнольд Цвейг и другие именитые его коллеги по «борьбе за мир» – с нами, в нашем «лагере мира и демократии». И по старой советской (еще досоветской, большевистской) формуле – «кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть» – все иные-прочие (включая беднягу Милюкова) были в стане врагов. Или – предателей.
Предателем в его глазах был не только генерал Власов, но и Виктор Кравченко, знаменитый невозвращенец 40-х годов, издавший книгу «Я выбрал свободу», в которой чуть ли не впервые во весь голос была сказана правда о сталинских лагерях.
***
С 24 января по 22 марта 1949 года в Париже слушалось на весь мир прогремевшее «Дело Кравченко». Прокоммунистический еженедельник «Леттр Франсэз» обвинил Кравченко в клевете. Кравченко тотчас же привлек эту французскую газету к суду. Газета вызвала на процесс около сорока свидетелей, среди которых были люди весьма почтенные, – тот же Жолио-Кюри, Хьюлетт Джонсон, Веркор, д’Астье де ля Вижери.
Со стороны Кравченко свидетелями выступили чудом уцелевшие и оказавшиеся на Западе узники сталинских лагерей.
Когда я читал стенограмму этого процесса (в далеко не полном виде она дошла до меня, конечно, лишь целую эпоху спустя), едва ли не самое сильное впечатление произвели на меня свидетельские показания Хьюлетта Джонсона (настоятеля Кентерберийского собора и, как и Жолио-Кюри, коллеги Эренбурга по движению сторонников мира). Он рассказал, что был в Советском Союзе несколько раз. Два раза встречался со Сталиным, который произвел на него впечатление доброго и обаятельного человека. В одну из своих поездок по стране, когда он летел на самолете в какую-то советскую глубинку, он – сам, лично, – обнаружил неполадку в моторе (по первому своему, светскому образованию он был инженер) и сообщил об этом экипажу. Пришлось совершить вынужденную посадку.
Они сели в каком-то захолустном колхозе, где их приняли с чисто русским гостеприимством. Пока летчики с местными умельцами чинили самолет, колхозники пригласили иностранных гостей на импровизированный вечер самодеятельности, на котором колхозные девочки-пионерки прелестно танцевали и пели английские песни на английском языке. Все это, разумеется, никак не могло быть подстроено, поскольку это была совершенно незапланированная вынужденная посадка, а неисправность в моторе первым заметил сам Джонсон.
То, что наши умельцы (не те, что помогали ремонтировать самолет, а те, что придумали и реализовали всю эту грандиозную липу) сумели запудрить мозги и навесить лапшу на уши наивному настоятелю Кентерберийского собора, меня не удивило. И не такие простые задачи им приходилось решать.
Но Эренбург-то знал, что все, о чем рассказал в своей книге Виктор Кравченко, – правда.
Едва только забрезжили робкие лучи хрущевской оттепели, он – едва ли не первым! – заговорил об этом, за что ему тут же и влепили хорошую плюху. (Нечего забегать вперед, партия лучше знает, какую правду, в какой исторический момент и в какой дозировке надлежит открыть народу.)
А весной 1963 года, уже на закате той самой хрущевской оттепели, за тот же грех Эренбургу был нанесен удар такой мощи, от которого, как тогда казалось, ему уже не оправиться.
***
Это был какой-то очередной (а может быть, даже и внеочередной) пленум ЦК по идеологии. Доклад делал Л.Ф. Ильичев, игравший при Хрущеве ту роль, которая при Сталине принадлежала Жданову. И весь этот длиннющий доклад – целиком, от начала и до конца – был посвящен Эренбургу.
У всех, кто тогда прочел – или хотя бы бегло проглядел – этот доклад, возникала – не могла не возникнуть! – полная уверенность, что на этот раз с Эренбургом решили покончить.
На знаменитой выставке в Манеже, где Хрущев орал на молодых художников «Пидарасы!», Эренбург, вдохновленный новыми «оттепельными» нравами, пытался спорить с Первым, защищая своего любимого Фалька. Вероятно, в этом споре он слегка перешел границы дозволенного, и Хрущев обиделся. Холуи это почуяли и – то ли их спустили с цепи, то ли они сами обрадовались, что «Илью» можно кончать.
В общем, в том докладе Ильичев припомнил ему все. И «белогвардейские», контрреволюционные стихи 17-го года «Молитва о России». И «Курбова». И «Лазика Ройтшванеца». Даже то, что он восхвалял Сталина. («Мы тоже это делали, но мы верили. А ты, б.., оказывается, не верил!») Ну и, наконец, мемуары, в которых он «извратил и оболгал» всю славную историю советского государства.
Я тогда все еще работал в «Литературной газете». Роль моя, правда, в это время была уже весьма неопределенная. Можно даже сказать – странная. Оттепель медленно умирала, начались заморозки, и из отдела литературы мне пришлось уйти. (Делать там мне больше было нечего.) Но тогдашний главный редактор «Литгазеты» Валерий Алексеевич Косолапов расставаться со мною не хотел. И определил мне не совсем понятную должность «спецкора при секретариате».

Вообще-то должность эта имела вполне ясные очертания. В ней состоял, например, Леня Лиходеев, роль которого заключалась в том, чтобы время от времени публиковать в газете свои фельетоны. Другие спецкоры выезжали в командировки по каким-нибудь острым читательским письмам, и написанные ими очерки или репортажи тоже, как говорится, «выходили на полосу».
Я же ни в какие командировки не ездил и никаких статей не писал, поскольку у них «выйти на полосу» в то время не было ни малейшего шанса. Должность моя поэтому была чистейшей воды синекурой. Я прекрасно понимал, что такое странное мое положение в газете не может длиться вечно и рано или поздно (скорее рано, чем поздно) мне придется написать заявление об уходе. Ну, а когда грянул гром и молния ударила в Эренбурга, я сразу понял, что пробил и мой последний час.
Правда, одна очень славная женщина, бывшая у нас парторгом, дала мне понять: если я слегка покаюсь, все, может быть, еще и обойдется. Собственно, мне даже и каяться-то особенно не пришлось бы. Надо было только признать ошибочность «Эренбурговой концепции» развития советской литературы, в которой меня обвинял «Блеонтьев». Ошибочность же эта заключалась в том, что я (подлаивая Эренбургу, как они считали), перечисляя самых выдающихся русских поэтов ХХ века, рядом с Маяковским и Есениным неизменно называл Пастернака, Мандельштама, Цветаеву, Гумилева, Волошина.
На доброжелательный намек славной женщины-парторга я гордо ответил:
– Это вы, члены партии, обязаны колебаться вместе с генеральной линией, а я могу себе позволить не делать этого.
В общем, судьба моя была решена.
Как раз в это самое время в «Литературку» пришел новый главный редактор – Александр Борисович Чаковский. Он сменил на этом посту в чем-то проштрафившегося Косолапова.
Газета при этом новом главном стала, пожалуй, интереснее. Во всяком случае – ярче. Но литературный отдел при Чаковском окончательно потерял последние остатки былого своего «либерального» направления. Так что для нас, сотрудников отдела литературы, Чаковский был не в пример хуже Косолапова. Ну, а по своим человеческим качествам он Косолапову и вовсе в подметки не годился.

А это – другой соратник Эренбурга по «борьбе за мир»:
Джон Бернал, английский физик, президент-исполнитель
Президиума Всемирного Совета мира, лауреат международной Ленинской премии.
Что такая «смена вех» непременно произойдет и новый главный, который рано или поздно придет вместо Косолапова (кто бы им ни оказался), наверняка будет хуже нашего Валерия Алексеевича, я, надо сказать, предвидел. И однажды даже у меня с Ильей Григорьевичем случился на эту тему довольно забавный разговор. Не помню уж, по какому поводу, он вдруг меня спросил:
– А что за человек этот ваш Косо-лапин?

Еще один видный «борец за мир» – знаменитый немецкий писатель Арнольд Цвейг. Он тоже был лауреатом международной Ленинской премии мира.
Эту его манеру я уже хорошо знал: если речь заходила о человеке, который был ему чем-то не по душе, он нарочно перевирал его фамилию. Так и тут: знал, конечно, прекрасно знал, что наш главный не «Косолапин», а Косолапов, но нарочно дал мне понять, что имеет на него зуб. Что тут же и подтвердилось.
Я сказал, что Валерий Алексеевич, конечно, человек законопослушный, против воли начальства не попрет, но по своей инициативе ничего плохого не сделает.
– Ну-ну, – сказал он, по обыкновению пожевав губами. – А то ведь я этого вашего Косо-лапина легко могу снять.
И, увидав мое ошалелое лицо, рассказал такую историю.
***
Собираясь сейчас эту историю повторить, я предполагал сделать это по возможности совсем коротко. Но тут же сообразил, что совсем коротко не получится: необходима предыстория, без которой сегодняшнему читателю ничего не понять.
19 сентября 1961 года «Литературная газета» напечатала стихотворение Евтушенко «Бабий Яр».
Я поднимался по лестнице с четвертого этажа к себе на шестой. Навстречу спускался Леня Лиходеев. Увидав меня, он остановился и произнес:
– Ну?
Короткое междометие означало примерно следующее:
– Ну? Что ты сейчас скажешь? По-прежнему будешь доказывать, что к «пожарной охране», как говорил Остап Бендер (то есть к поэзии), это отношения не имеет? Или все-таки оценишь наконец если не само стихотворение, так хоть гражданский поступок поэта?
Истолковав таким образом это его лаконичное «Ну?», я начал бормотать в своем обычном духе, доказывая, что и «Бабий Яр», и «Наследники Сталина», и другие публицистические стихи Евтушенко, восхищающие многих своей «смелостью», не в силах изменить моего уже давно определившегося скептического отношения к поэту.
Спокойно выслушав мой сбивчивый и не очень внятный монолог, Леня ухмыльнулся все той же своей сардонической ухмылкой и сказал:
– Что бы ты ни говорил, ребе, но сегодня он таки положил двенадцать миллионов евреев в свой жилетный карман.
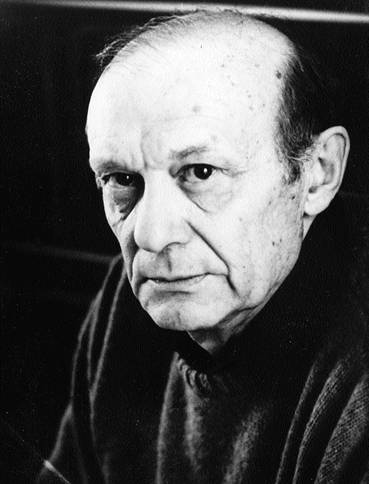
Леонид Лиходеев: «Ну? Что ты теперь скажешь?»
В тот же день я имел случай убедиться, что это были не пустые слова. Вечером мы с женой заглянули к Шкловским, у которых собралась тьма гостей. И все в один голос славили Евтушенко, его талант, его гражданское мужество. Один из гостей (это был Лев Исаевич Славин) в запале даже назвал Женю великим поэтом. Я оказался не то что в меньшинстве, а в полном одиночестве. Сам же Виктор Борисович в ответ на мои претензии к поэту высказался в свойственной ему манере. «Сарнов, – сказал он с неизменной своей “улыбкой Будды”, – не понимает, что любовь и проституция в основе своей имеют нечто общее».
Через несколько дней в газете «Литература и жизнь», которую мы в своем кругу презрительно именовали «ЛИЖИ» (лижут, мол, задницу начальству), появилась грязная антисемитская статья известного тогда литературного проходимца Дмитрия Старикова. Проходимец этот был человек довольно начитанный (во всяком случае, в рядах его единомышленников таких эрудитов было немного), и он довольно хитроумно столкнул скандальное стихотворение Евтушенко с одноименным стихотворением (1944 года) Эренбурга. Вот Эренбург, дескать, в отличие от Евтушенко, в том давнем своем стихотворении проявил себя как настоящий, подлинный интернационалист.
Эренбург в то время был в Риме, но о подлой выходке Старикова узнал почти сразу. Во-первых, информация тотчас попала в итальянские газеты. А кроме того, о «кругах по воде» от брошенного Стариковым камня ему быстро просигналил в Италию «комиссар» Б. Слуцкий.
«Было бы очень хорошо, – рекомендовал он, – если бы Вы телеграфировали свое отношение к попытке Старикова прикрыться Вашим именем – немедленно и в авторитетный адрес».
Поначалу ни в какой авторитетный адрес Илья Григорьевич ни писать, ни телеграфировать не стал, а просто отправил в «Литгазету» такое коротенькое послание.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Находясь за границей, я с некоторым опозданием получил номер газеты «Литература и жизнь» от 27 сентября, в котором напечатана статья Д. Старикова «Об одном стихотворении». Считаю необходимым заявить, что Д. Стариков произвольно приводит цитаты из моих статей и стихов, обрывая их так, чтобы они соответствовали его мыслям и противоречили моим.
С уважением
Илья Эренбург
3 октября
На страницах газеты письмо появилось далеко не сразу. (Слуцкий как в воду глядел: без обращения в «авторитетный адрес» дело не обошлось.) А сперва события развивались так. При всей дипломатичности этого короткого письма, имеющего – внешне – вид вполне невинный, опубликовать его без санкции начальства Косолапов не мог. Порядок был такой, что план каждого номера посылался в ЦК. Увидав в плане «Письмо в редакцию» Эренбурга, «дядя Митя» все равно потребовал бы, чтобы ему показали текст письма. (Дело, впрочем, было не в тексте, а в имени Эренбурга. Ну и, разумеется, в поводе, по которому письмо было написано.)
Тут надо сказать, что в некоторых случаях Косолапов применял разного рода обходные маневры. Однажды, например, опасаясь за судьбу какого-то острого материала, который ему хотелось протащить, а в ЦК вполне могли его забодать, он сказал: «А сегодня план номера мы пошлем им под самый вечер, когда они уже будут застегивать свои портфели». (Этот эпизод и эту его реплику вспоминает в своих мемуарах Лазарь Лазарев.)
Но в случае с «Письмом в редакцию» Эренбурга «Косолап», как мы его называли, так поступить не решился. И «дядя Митя» печатать эренбурговское письмо, конечно же, запретил.
Такова, стало быть, предыстория. А теперь возвращаюсь к истории.
***
Увидав мое ошеломленное лицо (я никак не мог взять в толк, каким образом он мог бы снять Косолапова), Илья Григорьевич сказал:
– Звоню я вашему Косо-лапину из Рима, спрашиваю, почему не печатают мое письмо, а он говорит: «Илья Григорьевич, вы же знаете, что это не я. Нам в ЦК категорически запретили это печатать!» Представляете?
Такое действительно трудно было себе представить.
В этом своем – МЕЖДУНАРОДНОМ! – телефонном разговоре, который, конечно же, мог прослушиваться, Косолапов ненароком выдал важную государственную тайну, состоящую в том, что главный редактор московской «Литературной газеты» и шагу не смеет ступить без разрешения ЦК.
Секрет, разумеется, был секретом Полишинеля, но одно дело догадываться или даже знать, как это у нас бывает, и совсем другое – услышать из собственных уст главного редактора «Литературки».
Стоило Илье Григорьевичу мимоходом упомянуть об этом в каком-нибудь разговоре с высоким начальством, и карьера нашего Валерия Алексеевича и впрямь сразу бы кончилась.
Я, признаться, даже не понял, как такой опытный службист, как наш «Косолап», мог так обмишуриться. Не может же быть, чтобы Эренбурга он боялся больше, чем «дядю Митю»! Не иначе, когда-то из-за Эренбурга он получил от начальства хорошую порку. Вот он и заробел, как сказано у А.Н. Толстого, «поротой задницей». Заробел так сильно, что не сообразил, о чем можно, а о чем ни в коем случае нельзя болтать по каналу международной связи.
Я, конечно, постарался как можно красноречивее объяснить Илье Григорьевичу, что наш «Косолап» не так уж плох и снимать его ни в коем случае не надо, потому что любой другой, кого «они» назначат на его место, наверняка окажется хуже. Гораздо хуже.
Так оно в конечном счете и получилось.
***
Итак, когда с высокой партийной трибуны Эренбургу был учинен тотальный разгром, главным редактором «Литгазеты» был уже не Косолапов, а Александр Борисович Чаковский. И новый наш главный редактор решил объяснить коллективу, что, собственно, происходит. Нас всех собрали в огромном редакторском кабинете – том самом, где каждую неделю я выступал на летучках, и Александр Борисович стал излагать нам свое видение ситуации. Надо отдать ему справедливость: особенно он Эренбурга не топтал. Порой даже казалось, что он говорит о нем сочувственно. Примерно так, как взрослый, умудренный жизнью человек – о наивном несмышленыше-подростке. При этом он как-то особенно подчеркнуто обращался ко мне (я сидел в первом ряду), как если бы я был на этом собрании его, Эренбурга, личным представителем.
– Представьте, – говорил он. – На дворе 1937 год. Эренбург сидит в Париже...
– В Мадриде, – громко сказал я из своего первого ряда.
– Ну, в Мадриде, какая разница, – отмахнулся он.
Раздался смех: среди слушателей было немало людей, понимавших, что разница между сидением в 1937 году в Париже или в осажденном франкистами Мадриде была все-таки довольно существенная.
– В Париже или в Мадриде – это в данном случае совершенно неважно, – повторил Александр Борисович, строго оглядев присутствующих.
Смех увял.
– И вот приезжает Илья Григорьевич из Парижа... Ну, хорошо, из Мадрида (поклон в мою сторону) на побывку в Москву. И спрашивает: что слышно? Какие новости? И со всех сторон ему шепчут в уши: взяли Такого-то... И Такого-то... И Такого-то... Только об этом и разговоров... И никто ведь не говорит ему, что в это время на Урале задули новую домну. А в Кронштадте со стапелей спустили новый мощный линкор. И поневоле создается у него такая аберрация. Вот такая ложная, искаженная картина тогдашней жизни нашего народа...

Евгений Евтушенко. Вот таким он был, когда в «Литературной газете» появилось его стихотворение «Бабий Яр».
Пересказывая сейчас эту замечательную речь Александра Борисовича, я вспомнил название одной программной статьи иных, более поздних времен. Посвящена она была двум главным тогдашним возмутителям спокойствия – Солженицыну и Сахарову. А называлась так: «Продавшийся и простак».
Продавшимся был объявлен Солженицын, а Сахарову (на тот момент) была уготована роль простака.
Так вот, пользуясь этой, более поздней терминологией, я могу сказать, что Эренбург в речи Александра Борисовича Чаковского изображался не продавшимся, а – простаком. И слушая эту его замечательную речь, я мгновенно усек, что дела Эренбурга не так уж плохи. Что раньше или позже – его простят. И вернут в команду на ту же, давно ему назначенную уникальную роль. Потому что, хоть и было некогда сказано, что у нас незаменимых нет, – он, Эренбург, незаменим. Другого такого они не найдут.
Природа этой его незаменимости состояла, конечно, и в его огромных международных связях, и в его – действительно незаурядном – публицистическом даре, и в его славе «антифашиста №1». Но более всего, как ни дико это звучит, – в его искренности. Да, он знал, что Виктор Кравченко в своей книге написал правду. А его друзья и соратники по борьбе за мир (Жолио-Кюри, Хьюлет Джонсон, Вюрмсер, Веркор) то ли лгали, то ли по недомыслию плели ерунду. Но при всем при том он совершенно искренне считал Кравченко предателем. Как-то там, в его душе, все это уживалось.
Вопреки злому определению Солженицына «фокусником» он не был.
***
Однажды я уже упоминал на этих страницах знаменитые слова Юлиана Тувима, что он связан с еврейством не той кровью, что течет в жилах, а той, что течет из жил. Упоминал и о том, что Эренбург не раз повторял эту формулу Тувима, уверяя, что она исчерпывающе выражает и его отношение к так называемому «еврейскому вопросу». Однажды он выразился на этот счет еще определеннее. Прямо сказал, что евреев, разбросанных по всему миру, роднит совсем не то, что они евреи.
«Если бы завтра нашелся какой-нибудь бесноватый, который объявил бы, что все рыжие или все курносые подлежат гонению и должны быть уничтожены, мы увидели бы естественную солидарность всех рыжих или всех курносых. Неслыханные зверства немецких фашистов, провозглашенное ими и во многих странах осуществленное поголовное истребление еврейского населения, расовая пропаганда, оскорбления сначала, печи Майданека потом – все это родило среди евреев различных стран ощущение глубокой связи. Это солидарность оскорбленных и возмущенных».
Солидарность оскорбленных и возмущенных, а не кровная связь, не родственная близость детей одной нации, одного народа. Высказав эту идею, Эренбург – казалось мне тогда – был искренен. Ведь я и сам тогда думал точно так же.
В действительности, однако, дело обстояло намного сложнее.
***
21 сентября 1948 года в «Правде» появилась большая статья Эренбурга. Называлась она – «По поводу одного письма». Эта статья была как бы ответом на письмо некоего Александра Р., студента-еврея из Мюнхена, который обратился к Эренбургу с жалобами на антисемитизм в Западной Германии и доказывал, что единственное спасение для всех евреев от этой их общей беды – эмиграция в Израиль.
Если не всем, то многим читателям статьи уже тогда было ясно, что никакого Александра Р. в действительности не существует, что фальшивое письмо это было состряпано в недрах советского агитпропа, а так называемый ответ Эренбурга этому несуществующему германскому студенту был Илье Григорьевичу заказан. И не кем-нибудь, а, конечно, самим Сталиным.
Сейчас эта нехитрая догадка подтверждена обнаруженными (сравнительно недавно) документами. В архивах отыскалась записка Маленкова Сталину, отправленная ему 18 сентября вместе с оттиском эренбурговской статьи.
«Перед отпуском Вы дали указание подготовить статью об Израиле. Дело несколько задержалось из-за отсутствия в Москве Эренбурга. На днях Эренбург прибыл. Мы с Кагановичем, Поспеловым и Ильичевым имели с ним разговор. Эренбург согласился написать статью».
На оттиске посланной Сталину эренбурговской статьи – сделанная рукой Поскребышева пометка: «Товарищ Сталин согласен».
(Советско-израильские отношения. Сборник документов. 1941 – 1953. Т.1, кн. 1. С. 375 – 383.)
Итак, сомнений нет: сочиняя статью, Эренбурга действовал по прямому указанию Сталина.
Но – как ни странно покажется современному читателю, – выполняя это пропагандистское задание вождя, он не кривил душой. Был искренен. И – мало того! – писал ее с сознанием выполняемого не только общественного, но и личного нравственного долга, личной своей ответственности перед теми, к кому обращался.
Начать с того, что он никогда не сочувствовал идеям сионизма. Точнее – идее воссоздания еврейского национального очага, самостоятельного еврейского государства. К мечте о создании «маленького, но своего» еврейского государства Эренбург относился примерно так же, как к еврейской литературе на языке идиш.
«Книги еврейских писателей, которые пишут на “идиш”, иногда доходят до нас. Это – книги как книги, нормальная литература, вроде румынской или новогреческой. Там идет хозяйственное обзаведение молодого языка, насаждаются универсальные формы, закрепляется вдоволь шаткий быт, проповедуются не бог весть какие идеи».
Это – из статьи Эренбурга «Ложка дегтя», написанной в 1925 году. Можно предположить, что этот высокомерный, снисходительный тон – порождение великодержавного, великорусского шовинизма: с вершины русского Парнаса, где обитают такие гиганты, как Гоголь, Толстой, Достоевский, даже звезд первой величины какой-нибудь там румынской, новогреческой или идишистской литературы можно разглядеть разве что в микроскоп.
Но естественное предположение это сразу же опровергается следующей фразой: «Может быть, этот язык слишком беспомощен, слишком свеж и наивен для далеко не младенческого народа».
Нет, великорусским шовинизмом тут и не пахнет. Это не русская, а именно еврейская гордыня.
«Ведь без соли человеку и дня не прожить, но соль едка, ее скопление – солончаки, где нет ни птицы, ни былинки, где мыслимы только умелая эксплуатация или угрюмая смерть.
Я не хочу сейчас говорить о солончаках – я хочу говорить о соли, о щепотке соли в супе...
Шестьсот лет тому назад поэт Раби Сан-Тоб преподнес испанскому королю Педро Жестокому книгу, озаглавленную: “Советы”. Стихи докучливого еврея должны были утешать короля в часы бессонницы. Книга начиналась следующим утешением: “Нет ничего на свете, что бы вечно росло. Когда луна становится полной, она начинает убывать”. Конечно, трудно утешить короля подобными истинами. Однако Педро Жестокий, будучи светским кастильцем, ответил поэту не менее мудрой пословицей: “Как хорошее вино иногда скрыто в плохой бочке, так из уст иудея порой исходит истина”. Это показывает, что король не дошел до девятой страницы “Советов”, – там он прочел бы нечто весьма подозрительное об устах и вине: “Что лучше? Вино Андалузии или уста, которые жаждут? Глупец! Самое прекрасное вино забывается, а жажда, ничем не утоленная, остается”.
Мир был поделен. На долю евреев досталась жажда. Лучшие виноделы, поставляющие человечеству романтиков, безумцев и юродивых, они сами не особенно-то ценят столь расхваливаемые ими лозы. Они предпочитают сухие губы и ясную голову.
При виде ребяческого фанатизма, начального благоговения еще не приглядевшихся к жизни племен, усмешка кривит еврейские губы. Что касается глаз, то элегические глаза, классические глаза иудея, съеденные трахомой и фантазией, подымаются к жидкой лазури. Так рождается “романтическая ирония”».
(Из той же статьи)
Да, Эренбург действительно без вост
орга относился к идее создания еврейского национального государства. Но не потому, что был сторонником ассимиляции. Он не стал патриотом Израиля, потому что был и навсегда остался патриотом еврейской диаспоры. Он был убежден, что только в диаспоре евреям дано сохранить свою сущность, свою (воспользуемся словцом современного философского жаргона) экзистенцию. Создав свое государство, они не приобретут, а потеряют. Нет, кое-что, может быть, и приобретут, но потеряют себя.
Тут – уже явно – речь не о той крови, «что течет из жил». Нет, это – о той крови, что течет в жилах.
Так что же все это значит?
Чем была для него и как проявляла себя в нем, в его душе, в его ощущениях, словах и поступках эта еврейская экзистенция?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо обратиться к главной книге Эренбурга, к его знаменитому роману «Необычайные похождения Хулио Хуренито».
***
Как я уже говорил, роман этот замечателен во многих отношениях. Но более всего поражает он сегодняшнего читателя высказанными в нем – на тот момент казавшимися совершенно невероятными, но вскоре сбывшимися, – пророчествами.
«Чтобы не забыть, я заготовлю текст приглашений, а ты, Алексей Спиридонович, снесешь их завтра в типографию “Унион”.
Пять минут спустя он показал нам следующее:
В недалеком будущем
состоятся торжественные сеансы
УНИЧТОЖЕНИЯ ИУДЕЙСКОГО ПЛЕМЕНИ В БУДАПЕШТЕ, КИЕВЕ, ЯФФЕ, АЛЖИРЕ
и во многих иных местах.
В программу войдут, кроме
излюбленных уважаемой публикой традиционных
ПОГРОМОВ,
также реставрирование в духе эпохи: сожжение иудеев,
закапывание их живьем в землю, опрыскивание полей
иудейской кровью и новые приемы, как-то : «эвакуация»,
«очистки от подозрительных
элементов» и пр. и пр.
– Учитель! – воскликнул в ужасе Алексей Спиридонович. – Это немыслимо! Двадцатый век – и такая гнусность! Как я могу отнести это в “Унион” – я, читавший Мережковского?
– Напрасно ты думаешь, что сие несовместимо. Очень скоро, может быть, через два года, может быть, через пять лет, ты убедишься в обратном. Двадцатый век окажется очень веселым и легкомысленным, а читатели Мережковского – самыми страстными посетителями этих сеансов! Видишь ли, болезни человечества – не детская корь, а старые, закоренелые приступы подагры. У него имеются некоторые привычки по части лечения... Где уж на старости лет отвыкать!..»
Главное, однако, не в этих сбывшихся пророчествах, которые автор «Хулио Хуренито» вложил в уста своего героя, почтительно именуемого им Учителем.
Главное – то, что происходит непосредственно за этим примечательным диалогом Учителя и Ученика.
«Учитель, – возразил Алексей Спиридонович, – разве евреи не такие же люди, как и мы?..
– Конечно, нет!.. Иудеев можно любить или ненавидеть, взирать на них с ужасом, как на поджигателей, или с надеждой, как на спасителей, но их кровь не твоя, их дело не твое. Не понимаешь? Не хочешь верить? Хорошо, я попытаюсь объяснить тебе это вразумительно. Вечер тих, нежарко, за стаканом легкого вуврэ я займу вас детской игрой. Скажите, друзья мои, если бы вам предложили из всего человеческого языка оставить одно слово, а именно, “да” или “нет”, остальное упразднив, какое бы вы предпочли?..»
В «игре», затеянной «великим провокатором», участвуют все его ученики – мистер Куль, мсье Дэле, Алексей Спиридонович Тишин, Карл Шмидт, Эрколе Бамбучи, негр Айша и «русский поэт Илья Эренбург».
Каждый из них – не просто представитель той или иной национальности: немец, француз, итальянец, русский... И даже не просто некий национальный тип, вобравший самые узнаваемые черты национального характера немца, француза, итальянца, русского. Уместнее тут было бы другое слово: архетип. То есть – образец, квинтэссенция всех типовых свойств немецкого бизнесмена, французского рантье, русского интеллигента, итальянского лаццарони...
Итак, «игра» началась.
«Начнем со старших. Вы, мистер Куль?
– Конечно, “да”, в нем утверждение и основа. Я не люблю “нет”, оно безнравственно и преступно... Когда я показываю доллары, все говорят мне – “да”. Уничтожьте какие угодно слова, но оставьте долллары и “да”, и я берусь оздоровить человечество.
– По-моему, и “да” и “нет” – крайности, – сказал m-r Дэле, – а я люблю во всем меру. Но что ж, если надо выбирать, то я говорю “да”! “Да” – это радость, порыв, что еще?.. Да! Гарсон, “Дюбоннэ”! Да! Зизи, ты готова? Да, да!
Алексей Спиридонович, еще потрясенный предыдущим, не мог собраться с мыслями, он мычал, вскакивал, садился и, наконец, завопил:
– Да! Верую, Г-споди! Причастье! “Да”! Священное “да” чистой тургеневской девушки...
– Да! Si! – ответил Эрколе. – Во всех приятных случаях жизни говорят «да» и только, когда гонят в шею, кричат “нет”!..»
Короче говоря, все ученики «великого провокатора», объясняя это разными соображениями и подтверждая разными доводами, отвечают, что если бы из всех слов, какие только существуют в их словаре, им надо было выбрать одно – «да» или «нет», – они решительно выбрали бы «да».
Но вот очередь доходит до первого и самого любимого ученика Хулио Хуренито – русского поэта Ильи Эренбурга:
«– Что же ты молчишь? – спросил меня Учитель.
Я не отвечал раньше, боясь раздосадовать его и друзей.
– Учитель, я не солгу вам – я оставил бы “нет”. Видите ли, откровенно говоря, мне очень нравится, когда что-нибудь не удается. Я очень люблю мистера Куля, но мне было бы приятно, если бы он вдруг потерял свои доллары... Конечно, как сказал мой прапрапрадедушка, умник Соломон: “Время собирать камни и время их бросать”. Но я простой человек, у меня одно лицо, а не два! Собирать кому-нибудь придется, может быть, Шмидту. А пока что я, отнюдь не из оригинальности, а по чистой совести должен сказать: “Уничтожь “да”, уничтожь на свете все, и тогда само собой останется одно “нет”!
Пока я говорил, все друзья, сидевшие рядом со мной на диване, пересели в другой угол. Я остался один. Учитель обратился к Алексею Спиридоновичу:
– Теперь ты видишь, что я был прав. Произошло естественное разделение. Наш иудей остался одиноким. Можно уничтожить все гетто, стереть все “черты оседлости”, срыть все границы, но ничем не заполнить этих пяти аршин, отделяющих вас от него. Мы все Робинзоны или, если хотите, каторжники. Дальше – дело характера. Один приучает паука, занимается санскритским языком и любовно подметает пол камеры. Другой бьет головой стенку – шишка, снова бух, снова шишка... Что крепче – голова или стена? Пришли греки, осмотрелись – может быть, квартиры и лучше бывают, без болезней, без смерти, без муки. Например, Олимп. Но ничего не поделаешь, надо устраиваться в этой. А чтобы сберечь хорошее настроение, лучше всего объявить все неудобства – включая смерть (все равно ничего не изменишь), – величайшими благами. Иудеи пришли и сразу бух в стенку. “Почему так устроено?..”».
Монолог Хуренито затягивается еще аж на полторы страницы: чувствуется, что эта тема для него (вернее – для автора) – из самых больных и самых любимых.
Не рискуя длить дальше цитату (она и так слишком затянулась), перехожу сразу к заключительной фазе монолога.
«Как не любить мне этого заступа в тысячелетней руке? Им роют могилы, но не им ли перекапывают поле? Прольется иудейская кровь, будут аплодировать приглашенные гости, но по древним нашептываниям она горше отравит землю. Великое лекарство мира!..
И, подойдя ко мне, Учитель крепко поцеловал меня в лоб».
Вот оно – кредо Ильи Эренбурга по так называемому еврейскому вопросу.
Его путь – и в жизни, и в литературе – был сплошными метаниями, он весь состоял из крутых поворотов и зигзагов. Но этому своему символу веры он не изменил ни разу.
Противником создания еврейского национального государства он, конечно, не был. Готов был признать, что для тех евреев, которые составят народонаселение этого еврейского национального очага, оно, может быть, было бы не так уж и плохо. Но не дай Б-г, если при этом прекратит свое существование двухтысячелетняя еврейская диаспора. Ведь тогда скептическую еврейскую усмешку сменит ребяческий фанатизм, наивное прекраснодушие, слезливое благоговение...
Евреи как этнос, как некая человеческая общность при этом, может быть, даже и выиграли бы. Но каким унылым и тусклым стал бы наш мир без этой исчезнувшей кривой еврейской усмешки:
Устала и рука. Я перешел то поле.
Есть мУка и мукА,
но я писал о соли.
Соль истребляли все.
Ракеты рвутся в небо.
Идут по полосе и думают о хлебе.
Вот он, клубок судеб.
И тишина средь песен.
Даст Б-г, родится хлеб.
Но до чего он пресен!
Это стихотворение Эренбург написал незадолго до смерти. И – вот что удивительно! – не только написал, но и напечатал. (В последнем прижизненном собрании сочинений.)
Напечатать его в пору самой яростной охоты за сионистскими ведьмами ему удалось не потому, что он как-то там особенно хитроумно зашифровал свою мысль. (Какой уж там шифр: все сказано достаточно прямо.) Просто никто уже давно не помнил, что он когда-то «писал о соли». Вот бдительные редакторы и цензоры и не догадались, без какой соли станет пресным хлеб, который уродится после того, как «соль» истребят окончательно и бесповоротно.
Что же это получается?
Выходит, так называемый «голос крови» – той, что течет в жилах, а не из жил, – тоже реальность. Ведь именно этот голос крови и заставляет его соплеменников там, где другие говорят «Да!», упрямо твердить – пусть даже на разных языках, – свое вечное: «Нет!»
***
Из всего сказанного следует, что, уговаривая своих читателей (в том своем ответе мифическому Александру Р.) не считать Израиль спасением от всех еврейский бед и напастей, Эренбург до некоторой степени был искренен. Но, уверяя их, что евреев, разбросанных по планете, объединяет только антисемитизм, а в остальном между ними нет ничего общего, он, конечно, кривил душой. И тут нельзя не сказать, что, помимо скептического отношения к идее создания еврейского национального государства, была и другая, куда более серьезная причина, заставившая его написать ту, заказанную Сталиным, статью.
Причина эта состояла в том, что он очень ясно видел и понимал то, что видели и понимали тогда очень немногие.
Тут, пожалуй, есть смысл рассказать одну – совсем короткую – историю, героем которой был один мой добрый знакомый – Эдуард Бабаев.
Он был (как и мой друг Валя Берестов, с которым они дружили с детства), что называется, литератор милостью Бжьей. В детстве их обоих (дело было в Ташкенте) привечали и опекали Ахматова, Алексей Николаевич Толстой, Корней Иванович Чуковский.
– Вам надо записаться в настоящую большую библиотеку, – сказал Корней Иванович, когда Эдик прочел ему свои детские стихи.
А Анна Андреевна добавила:
– И поступить в университет.

Эдуард Григорьевич Бабаев. Парадоксальный совет, который ему дал Эренбург, оказался пророческим.
Последний совет осуществить было еще труднее, чем первый. И вышло так, что сперва он стал (там у себя в Ташкенте) студентом транспортного института. Но мечта поступить в университет (разумеется, на филфак) его не оставляла. Кончилось тем, что в один прекрасный день он сорвался из дома и сбежал в Москву. Тут сразу же выяснилось, что мечта перевестись из его института в Московский университет да еще на факультет, не имеющий ничего общего с институтом, в котором он учился, не то что неосуществима, а прямо-таки безумна. Но знакомство с Ахматовой, Чуковским и А.Н. Толстым открыло ему в Москве многие двери. Он познакомился с Пастернаком, Шкловским, Ираклием Андрониковым. И все они – по мере сил – старались ему помочь. Корней Иванович написал рекомендательное письмо академику В.В. Виноградову. Шкловский никаких писем писать не стал, а тут же позвонил Федору Васильевичу Гладкову, который был тогда директором Литературного института, и сказал ему, что, хотя сейчас давно уже не начало, а середина учебного года, этого парня в потертой шинели и разбитых сапогах в институт немедленно надо принять, потому что он талантлив.
Гладков спросил, кто еще, кроме Шкловского, может этого талантливого парня рекомендовать. Шкловский сказал:
– Ахматова.

Виктор Шкловский: «Любовь и проституция в самой основе своей имеют нечто общее».
Гладков хмыкнул и сказал, что гораздо лучше было бы, если б его рекомендовал, например, Эренбург. И Эдик отправился к Эренбургу. Повод для такого визита у него был: письмо Надежды Яковлевны Мандельштам, с которой он познакомился – и даже подружился – в том же Такшкенте.
В отличие от Корнея Ивановича и Виктора Борисовича, Илья Григорьевич встретил его неласково. Не предложил даже раздеться. Но в начале разговора неожиданно спросил:
– Вы пишете стихи?
И когда Эдик ответил утвердительно, закурил трубку, откинулся на спинку кресла и коротко приказал:
– Читайте.
Послушав, сказал:
– Пойдите снимите шинель.
Напряжение первых минут прошло. Но ласковее он не стал. Говорил все так же хмуро, как будто даже недоброжелательно. Мельком взглянув на рекомендательное письмо Шкловского, которое Эдик ему показал, разразился раздраженным монологом:
– Ни у кого не берите никаких рекомендательных писем. Никто не может поручиться, что имена, которые сегодня еще кажутся вполне респектабельными, завтра не окажутся отверженными... Зачем и кому это сейчас нужно ссылаться на авторитет Анны Ахматовой? Одна такая строка может погубить вас...
Вспоминая об этом, Эдик сказал, что никто и никогда не говорил с ним таким тоном. Эренбург почти кричал на него:
– Уезжайте домой. Чем дальше, тем лучше. Бросьте ваш институт, если он вам не по душе. Проситесь в армию, поезжайте в полк, служите. Все будет лучше Литературного института, где вас затравят именно за то, что вас рекомендовала Анна Ахматова, за то, что вы привезли мне письмо вдовы несчастного Мандельштама...
В общем, ушел Эдик от него сильно обескураженный. И странным его советам, конечно, не внял. Вернувшись в Ташкент, после долгих мытарств перевелся все-таки из своего транспортного в университет. Правда, не на филфак, а на физмат. Но после весенней сессии добился перевода на филфак. С потерей, правда, одного года. Но это его не смущало. Он был счастлив.
И вот тут-то и сбылось мрачное пророчество Эренбурга. Грянуло постановление ЦК о Зощенко и Ахматовой. И Эдика вызвали куда-то в деканат или в партком и сказали, что он должен выступить на общем собрании и сказать о том вредном влиянии, которое оказывает поэзия Анны Ахматовой на молодежь.
– Все знают, – сказали ему, – что ты был знаком с этой осужденной общественным мнением поэтессой... Кому как не тебе! Подумай... У тебя впереди еще вся жизнь!
И он подумал. И подал заявление в ректорат с просьбой об «увольнении» из числа студентов филологического факультета.
Я не стану распространяться о том, каких душевных мук это ему стоило. Не столько потому, что читатель, обладающий даже не слишком богатым воображением, легко и сам себе это представит, а просто потому, что рассказываю не о судьбе Эдуарда Бабаева (который, к слову сказать, в конце концов все-таки стал филологом), а – об Эренбурге.
В отличие от ласкового Корнея Ивановича и доброжелательного Виктора Борисовича, которые искренне хотели помочь талантливому юноше, раздраженно оравший на него Эренбург ХОТЕЛ ЕГО СПАСТИ. Он хотел ПРЕДОСТЕРЕЧЬ его от шага, который мог оказаться для него гибельным.
До постановления ЦК о Зощенко и Ахматовой было еще около года. И ничего об этом готовившемся (тогда, наверно, еще и не готовившемся) постановлении Илья Григорьевич, конечно, не знал. Просто не мог знать.
Но он чувствовал, что дело пахнет керосином.
И тот же запах, только стократ усиленный, толкнул его написать ответ мифическому Александру Р. – это свое ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ евреям, ошалевшим от известия, что впервые за две тысячи лет у них опять появилось наконец свое государство.
А московские евреи (не только московские, наверно, но о московских я знаю точно) тогда и впрямь ошалели.
Как раз тогда приехала в Москву Голда Меир. Голдой Меир, впрочем, она стала именовать себя позже, а тогда еще звалась Голдой Мейерсон. Но сути дела это не меняло. Она была первым послом Израиля в Москве. И пронесся слух, что когда она появилась в московской хоральной синагоге в день празднования еврейского Нового года, толпы вот этих самых ошалевших евреев устроили нечто вроде радения. Собралось их там, как говорили, не то десять, не то двадцать, не то тридцать тысяч. Первого израильского посла они приветствовали как Мессию. Многие в экстазе целовали края ее одежды.
Такая же – еще более бурная – демонстрация еврейских национальных чувств разразилась спустя неделю, когда Голда Мейерсон уже вторично прибыла в синагогу по случаю праздника Судного дня. Неисчислимые толпы евреев, восторженно повторявших древнее заклинание «На следующий год – в Иерусалиме», двинулись вслед за израильскими дипломатами, которые решили пройти пешком от синагоги до своей резиденции в гостинице «Метрополь». Это была уже не эйфория, а самая что ни на есть настоящая истерия.
Сейчас я лучше, чем тогда, в пору моей комсомольской юности, понимаю чувства, владевшие евреями, составившими ту толпу. Чувства людей, помнивших (в отличие от меня), что их предки на протяжении двух тысячелетий повторяли как молитву это святое заклинание – «На следующий год – в Иерусалиме», и вдруг узнавших, что эта двухтысячелетняя мечта гонимого народа, рассеянного по всей планете, стала реальностью.
Но все это я понимаю сейчас. А тогда поведением этих «отсталых» евреев я был искренне возмущен. И с той статьей Эренбурга был, в общем, согласен.
Да, конечно, утверждая, что разбросанных по миру евреев связывают только печи Освенцима и Майданека, он кривил душой. На самом деле он так, безусловно, не думал. Немало было в статье и других «фокусов» (слово «фокусник» в злых и, в общем, несправедливых строчках Солженицына все-таки не с потолка было взято). Но выполнить сталинский заказ он согласился не «страха ради иудейска», и статью ту написал «не по долгу, а по душе».
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
E-mail: lechaim@lechaim.ru