[<< Содержание] ЛЕХАИМ НОЯБРЬ 2003 ХЕШВАН 5764 – 11(139)
Велижское дело в освещении преданий, документов и памятников литературы
Мирон Рывкин
В двадцатые годы минувшего (XIX-го. – Ред.) столетия
центром внимания не только русского, но и всемирного еврейства неожиданно
сделался безвестный дотоле, небольшой, хотя и с давней историей, белорусский
городок Велиж. 
Не прошло даже полвека с тех пор как после первого раздела Польши город этот из-под польского владычества перешел к России. Католицизм еще не успел окончательно сдать в Велиже свои позиции, а "православное благочестие" (по официальной тогдашней терминологии), хоть и насаждалось весьма твердой рукой, тоже не успело в должной мере завладеть сердцами верующих в христианского Б-га. С трудом выдерживавшая эту двустороннюю атаку, уния (униатами же были поголовно все или почти все так называемые "коренные" жители) делала последние отчаянные попытки самообороняться, главным образом от официального православия, одновременно стирая понемногу последнюю грань, отделявшую ее от Рима1. Столкновение враждующих сил неизбежно должно было высечь искру. Упав на благодатную, хорошо унавоженную почву вековой злобы и ненависти к тем, кто пребывал в стороне от этих борений и менее всех заинтересован был в их исходе, искра эта очень скоро разгорелась, и кровавое зарево встало над городом.
Евреи были первыми брошены в костер. Побежденные с его помощью думали задержать наступление победителей, совершая последнюю попытку собрать воедино свои уже готовые рассеяться рати. Но и побеждавшие, и побежденные в конечном счете выполняли одну и ту же работу: с одинаковой одержимостью подбрасывали в огонь все, что могло дать ему новую пищу, что должно было разжечь его еще сильнее, превратив во всееврейское пожарище. Каждый жертвовал что мог. Воинствующий католицизм не пожалел своих тонких политических расчетов, уния отдала накопленный за два столетия темными народными массами злобный фанатизм, пропагандисты официального православного «благочестия» вывалили в огонь свое косное полицейски-крепостническое «правосознание»2. И двенадцать лет багровый отблеск раздутого объединенными усилиями пожара озарял ярким пламенем, на виду у мира, всю глубину еврейского бесправия, всю безнадежность борьбы с прочно въевшимся в сознание широких масс кровавым призраком.
Жуткий миф, вспоенный кровью, миф, осмеянный наукой и неоднократно осужденный церковью, через шесть лет после официального «упразднения» его престолом (высочайшее повеление от 28 февраля 1817 г.) снова завладел умами и двенадцать лет держал в оцепенении миллионы евреев, миллионы христиан. Даже изобличенный перед лицом правды, в свете правосудия он дрогнул было, но не рассеялся.
 Через сорок лет после заключительного акта велижской
трагедии (дело официально закончилось 18 января 1835 г.) в Велиже, где пишущий
эти строки провел свои первые сознательные годы, сохранились лишь слабые следы
события, некогда потрясшего город до самого основания. Целое поколение отделяло
нас, детей, чье пугливое воображение распалялось страшными пересказами
полузабытой легенды, от тех, для кого эта страшная сказка была
действительностью. Старые, заброшенные могилы, принявшие в себя первых жертв кровавого
и ложного обвинения, терялись среди нестройных рядов могил новых, недавних, и
дорожки к ним густо заросли травой. Город существовал как обычно. На площади,
на прилегающих к ней улицах, возле домов, еще недавно служивших тюрьмами, и в
самих этих домах, внутренние помещения которых десять лет подряд оглашались
только мерным лязгом цепей, – повсюду шумно творилась жизнь. Так же, как и за
полстолетия до того, на Петербургской улице, у реки, недалеко от перевоза,
бойко торговал шинок Ханы Цетлин, теперь принадлежавший сыну ее Ильке, и так же
гостеприимно, как пятьдесят лет назад, раскрывал свои двери перед толпой
второй, лежавший по другую сторону улицы; хозяином его некогда был один из
героев пережитой трагедии – Носон Берлин. И точно так же как тогда, незаменимой
в домашнем еврейском обиходе личностью была вечно пьяная, распутная баба – без
роду и племени, умная и наглая, с синими запекшимися губами и маленькими
бегающими глазками. Водоноска, истопница, судомойка, она по субботам тушила
свечи, доила коров, «распечатывала» печи, в пасхальную ночь выпивала «остатки»,
коверкая, твердила еврейские благословения, прислуживала родильницам, встречала
новобрачных, провожала умирающих, всем говорила «ты», всем лгала и всех
ненавидела. Это была типичная Марья Терентьева (хоть и звали ее Олёной), чей
лживый заплетающийся язык полстолетия назад, фигурально выражаясь, заковал в
кандалы десятки ни в чем не повинных людей. И за полтинник меди или полуштоф
водки первый же встречный, если бы это ему понадобилось, легко мог и впрямь
превратить ее в новую Терентьеву, вызвав из тьмы забвения давно растаявшую в
тумане кошмарную тень.
Через сорок лет после заключительного акта велижской
трагедии (дело официально закончилось 18 января 1835 г.) в Велиже, где пишущий
эти строки провел свои первые сознательные годы, сохранились лишь слабые следы
события, некогда потрясшего город до самого основания. Целое поколение отделяло
нас, детей, чье пугливое воображение распалялось страшными пересказами
полузабытой легенды, от тех, для кого эта страшная сказка была
действительностью. Старые, заброшенные могилы, принявшие в себя первых жертв кровавого
и ложного обвинения, терялись среди нестройных рядов могил новых, недавних, и
дорожки к ним густо заросли травой. Город существовал как обычно. На площади,
на прилегающих к ней улицах, возле домов, еще недавно служивших тюрьмами, и в
самих этих домах, внутренние помещения которых десять лет подряд оглашались
только мерным лязгом цепей, – повсюду шумно творилась жизнь. Так же, как и за
полстолетия до того, на Петербургской улице, у реки, недалеко от перевоза,
бойко торговал шинок Ханы Цетлин, теперь принадлежавший сыну ее Ильке, и так же
гостеприимно, как пятьдесят лет назад, раскрывал свои двери перед толпой
второй, лежавший по другую сторону улицы; хозяином его некогда был один из
героев пережитой трагедии – Носон Берлин. И точно так же как тогда, незаменимой
в домашнем еврейском обиходе личностью была вечно пьяная, распутная баба – без
роду и племени, умная и наглая, с синими запекшимися губами и маленькими
бегающими глазками. Водоноска, истопница, судомойка, она по субботам тушила
свечи, доила коров, «распечатывала» печи, в пасхальную ночь выпивала «остатки»,
коверкая, твердила еврейские благословения, прислуживала родильницам, встречала
новобрачных, провожала умирающих, всем говорила «ты», всем лгала и всех
ненавидела. Это была типичная Марья Терентьева (хоть и звали ее Олёной), чей
лживый заплетающийся язык полстолетия назад, фигурально выражаясь, заковал в
кандалы десятки ни в чем не повинных людей. И за полтинник меди или полуштоф
водки первый же встречный, если бы это ему понадобилось, легко мог и впрямь
превратить ее в новую Терентьеву, вызвав из тьмы забвения давно растаявшую в
тумане кошмарную тень.
Жизнь залечила старые раны. И только раз в год, в 18-й день месяца шват, в годовщину открытия запечатанных некогда еврейских молелен, город один вечер предавался праздничному веселью. Синагоги – особенно в первое время после трагедии – богато иллюминовались плошками, кое-где раздавалась музыка, и знаменитый местный маэстро Рувим Берсон замечательно играл на своей маленькой послушной скрипке. Женщины устраивали хоровод, а Итка Берлин3, в черном шелковом чепце с красными цветами и развевавшимися по воздуху голубыми лентами, ловко приседала в такт музыке, прихлопывая пухлыми белыми ладошками.
Потом, вместе с кончиною Итки, прекратились и эти праздники.
Три года назад, в 1906 г., умер последний из тех, кто был так или иначе связан с Велижским делом. Лейзер Рудняков звали этого человека. Незадолго до смерти он поведал пишущему сии строки о своем далеком детстве. Мать его, Лея, арестованная одновременно с мужем (Зусей Рудняковым), увела Лейзера с собой в тюрьму. Он тогда только начал ходить. Здесь, в заключении, мальчик и вырос. Мать брала его с собой на допросы, которая учиняла специальная комиссия. Надзиратели разрешали ему играть в тюремном дворе. Хаим Хрипун научил его грамоте, Итка Цетлин веселила своими песнями. И когда вместе с отцом и матерью он вышел на свободу, ему пошел уже 12-й год.
На нем обрывается связь доживающих в Велиже поколений с теми, что непосредственно приняли на себя весь ужас кровавого навета.
Только в шести верстах от города, в корчме «Брусованка», до сих пор (апрель 1909 г.) живет еще старушка Рехель, племянница Зелика Брусованского, одного из многочисленных узников, так и не вернувшихся на свободу и встретивших смерть под тюремными сводами. Пока ее дядя был жив, она носила ему в тюрьму еду. И теперь, долгими зимними сумерками, когда метель заметает дорогу и жалобным воем в трубе будит давно уснувшие тени, она обращает печальный взор к городу, и крупные слезы текут по ее глубоко залегшим морщинам.
Святые стариковские слезы, они льются вот уже более 80 лет!
I
Фактическая сторона Велижского дела отражена в опубликованных архивных материалах4.
25 марта 1823 г., в праздник Благовещения, за месяц до христианской Пасхи, психически больная девушка по имени Анна Еремеева, занимавшаяся предсказаниями и ворожбой, объявила окружающим, что в первый день Светлого Христова Воскресения «одна христианская душа будет загублена евреями». Накануне Пасхи она подтвердила свое предсказание и при этом сообщила некоторые подробности: христианский мальчик, которого она узрела в первом своем «представлении» (видении), назначен страдать «в иудейском, что против зарева на рынке, большом угловом каменном доме». То есть в доме Мирки Аронсон.
Действительно, 22 апреля, в первый день Пасхи, у жившего на окраинной Сибирской улице рядового местной инвалидной команды Емельяна Иванова пропал мальчик трех с половиной лет по имени Феодор. На третий день праздника к жене Емельяна, Агафье Ивановой, пришла неизвестная ей женщина Марья Терентьева, подруга Еремеевой и ее наставница, тоже занимавшаяся гаданиями и ворожбой, и, пустив воск на воду, заявила, что мальчик находится в доме еврейки Мирки в погребе, откуда его еще можно взять живым; если же его не освободят, то он будет умерщвлен. Мать не пошла выручать сына, а отправилась в деревню Сентюры к Анне Еремеевой, которая в точности повторила ей слова Терентьевой. Поиски пропавшего мальчика так даже и не начались, и 2 мая труп его был случайно найден в полуверсте от города на кочке в лесу, «чем-то в нескольких местах пронзенный».
5 мая в доме Мирки Аронсон, где вместе с нею жил ее зять Шмерка Берлин, был произведен тщательный обыск, не давший ровным счетом никаких результатов.

Лейзер Рудняков.
Тем не менее полиция, по указаниям Марьи Терентьевой и Анны Еремеевой, представила 15 декабря 1823 г. в городской магистрат материал для привлечения к суду купца Шмерки Берлина и сына его Гирши, велижской мещанки Ханы Цетлин и случайно проезжавшего через г. Велиж и остановившегося в доме Шмерки Берлина полоцкого мещанина Иоселя Гликмана.
16 июля 1824 г. поветовый суд вынес резолюцию, в коей постановлено Хану Цетлин и Иоселя Гликмана оставить в сильном подозрении, а последнего, кроме того, еще и арестовать; смерть Феодора Емельянова «предать воле Божией, умерщвление же оставить в подозрении на евреев».
Витебский главный суд, куда дело поступило на утверждение, приговор сей отменил и постановил евреев «оставить без всякого подозрения». Терентьева же «за ворожбу и блудное житие» была приговорена к церковному покаянию.
Осенью 1825 г. дело, однако, по жалобе Терентьевой было возобновлено, и в Велиж прибыла специальная следственная комиссия во главе с чиновником Страховым.
22 ноября Марья Терентьева заявила перед этой комиссией, что она сама принимала участие в умерщвлении христианского мальчика совместно с евреями и бывшей служанкой Ханы Цетлин Авдотьей Максимовой. 1 декабря последняя была арестована, а 7 декабря, после некоторой путаницы в показаниях, «утвердилась» наконец на версии оговорившей ее Терентьевой, повторяя теперь уже за ней дословно все, что произносила та.
15 декабря была арестована бывшая служанка Берлиных Прасковья Козловская, которую Терентьева и Максимова тоже назвали как соучастницу. Два месяца ее показания шли вразрез с утверждениями двух других доказчиц, и только после целого ряда допросов все три христианки-обличительницы «утвердились» на единогласном показании, которое вкратце сводилось к следующему.
За неделю до «еврейского праздника мацы (пейсаха)», в Великий пост 1823 г., еврейка Хана Цетлин попросила Терентьеву привести ей «хорошенького христианского мальчика». Встретив на мосту солдатского сына Феодора Емельянова, Терентьева повела его в дом Ханы и Евзика Цетлиных, где его приняла из ее рук служанка Максимова и отнесла к хозяйке в горницу, за что обе они «были напоены допьяна» и, кроме того, каждая получила по 2 рубля серебром. Вечером того же дня эти женщины отнесли мальчика в дом Шмерки Берлина к Мирке Аронсон5, где было тогда «очень много евреев обоего пола», за что также получили водки и по 2 рубля каждая. В понедельник мальчика понесли обратно к Хане Цетлин, во вторник утром обратно к Мирке, а вечером снова к Хане. В среду он весь день оставался в доме Цетлиных, а в четверг утром Терентьева снова отнесла его в дом Мирки, откуда его уже более никуда не выносили.
В понедельник на Фоминой неделе Хана Цетлин, напоив Терентьеву и Максимову вином, привела обеих в дом Мирки, в горницу дочери ее Славки Берлин, где были собраны те же евреи обоего пола. Там они обе, при содействии Козловской и соучастии всех присутствовавших при том евреев и евреек, принялись истязать раздетого донага младенца (окунали в бочку, обрезали, подкалывали, мыли, обтирали и снова подкалывали), после чего Терентьева по приказанию евреев завязала ему платком рот, взяла его со стола и в сопровождении всех находившихся при том евреев и евреек понесла в еврейскую школу. Там истязания ребенка продолжались и завершились мученической его смертью, причем кровь, которая была из него источена, собрали в стоявшую тут же «начевку», в которой евреи мочили холст, и раздавали всем присутствующим.
Здесь же совершились надругательства над похищенным из Ильинской униатской церкви антиминсом, а также изображениями святых; кроме того, все три христианки были обращены в жидовскую веру.
По окончании всего присутствующие «разошлись по домам, и Максимова понесла за Цетлиной одну, Козловская за Берлиновыми две бутылки и Терентьева за Орликом Девирцом бочонок с кровью, который, отнесши за ним в угольный каменный дом с зеленою крышею, на Рыночной площади находящийся, поставила в оном в особую каморку».
Кровь же, по показанию Терентьевой, нужна евреям по той причине, что тряпочкою, вымоченной в крови, «протирают глаза родившимся младенцам, потому что евреи родятся слепыми, а немного христианской крови евреи кладут в муку, из которой пекут мацу (опресноки)».
Бочоночек с кровью, который хранился в горнице у лекарского ученика Орлика, был на другой год отвезен Марьей Терентьевой вместе с двумя сопровождавшими ее еврейками в Витебск, а оттуда с теми же самыми еврейками в местечко Лезну6.
Результатом всех этих показаний явилось то, что 44 человека были арестованы, закованы в кандалы и заключены в одиночные камеры7. Независимо от этого в августе месяце 1826 г. после всеподданнейшего доклада генерал-губернатора князя Хованского о ходе следственного дела последовало высочайшее повеление: «В страх и пример другим жидовские школы в Велиже запечатать впредь до повеления, не дозволяя служить ни в самых сих школах, ни при них».
II
Таков официальный сюжет Велижского дела, который нашел свое отражение в архивных материалах и который так или иначе занесен в документы, хранящиеся в правительственных канцеляриях.
В нашу задачу входит, однако, по мере сил и возможности показать другую сторону трагедии, ту, что не могла быть использована официальным делопроизводством. Речь пойдет о мыслях и ощущениях тогдашнего еврейства, связанного с Велижским делом, до такой степени застигшим его врасплох, что через пятьдесят лет, отделяющие мои воспоминания от самого события, не все еще сумели правильно разобраться в происшедшем. Собранные мной сведения не могут, конечно, претендовать на полноту и абсолютную достоверность; однако упускать их из виду невозможно и несправедливо.
И поскольку за эти полвека восприятие велижской истории не претерпело изменений в умах потрясенных ею людей, я должен был прийти к недвусмысленному заключению: велижские евреи с того самого момента, как на них обрушилось страшное несчастье, с полной ясностью понимали, что стали жертвами гигантского заговора. Что заговор этот очень плохо продуман, но заговорщики зато действуют с чрезвычайной грубостью и наглостью. Именно эта грубость, эта безнаказанность, а также то, что клеветники не потрудились придать кровавому навету хоть какое-нибудь юридическое обоснование, не позаботились об элементарных доказательствах, повергали велижских евреев в особое уныние. Было абсолютно очевидно, что над ними совершается расправа, что любые, самые убедительные аргументы там, где приговор вынесен заранее, звучат по меньшей мере нелепо. И те, кто не умер сразу от сознания своего бессилия, мало-помалу свыклись с мыслью, что защищаться бесполезно. В конце концов они даже отказывались отвечать на вопросы членов следственной комиссии. Практический интерес представлял для них только вопрос о том, насколько широко раскинута опутавшая велижское еврейство сеть, где ее пределы. В сплетении же ее принимали одинаковое участие почти все представители местного христианского общества – начиная пьяницей-сапожником Петькой Азадкевичем и кончая городским головою Хрулевичем. Задействованы были и представители духовенства: католического (ксендзы Серафимович и Лукович), униатского (Тарашкевич, Гнида, Перлашкевич), православного (отец Симеон). И вся местная администрация тоже – от будочника Устинцова до земского исправника, князя Друцкого-Соколинского включительно. Пока казалось, что список врагов обрывается на председателе следственной комиссии коллежском советнике Страхове, евреи возлагали кое-какие надежды на генерал-губернатора князя Хованского. Когда же выяснилось, что в этом чудовищном деле князь – чуть ли не глава, не «мозговой центр», взоры их обратились к еще более важным лицам. Полная безнадежность овладела всеми лишь тогда, когда командированные в Велиж по высочайшему повелению и для участия в работе следственной комиссии флигель-адъютант генерал Шкурин и статский советник Беклешов быстро перешли на сторону так называемых «доказчиц», отдавая себя в полное распоряжение заговорщиков.
Вокруг бездыханного тельца никому не известного трехлетнего Феодора Емельянова стояли люди разного общественного положения, разных религиозных и политических воззрений. Характерно: все сохранившиеся среди велижских евреев предания о причине смерти этого мальчика едины в том, что участники заговора воспользовались трупом ребенка случайно, а вовсе не были виновниками его гибели.
Наиболее распространенной среди велижских евреев считается версия о том, что мальчика будто бы нечаянно подстрелил из ружья, заряженного дробью, неизвестный охотник, издали принявший его за зайца. Труп был тотчас перенесен в аптеку Лангебека, и там, еще до прибытия штаб-лекаря Левена, дробинки поспешно извлекли из ранок, отчего создалось впечатление, будто мальчика кололи каким-то длинным предметом, и кололи глубоко.
Версия эта опровергается, однако, сохранившимся в деле протоколом вскрытия, где указано, что платье осталось на мальчике нетронутым.
Не менее распространена была среди местных евреев и другая версия. Она утверждает, что мальчика кто-то переехал, когда он переходил дорогу; для сокрытия преступления труп его отнесли в сторону и бросили на кочку. Эта версия тоже опровергается протоколом вскрытия.
Очень многие евреи Велижа придерживались третьей версии. Она относит момент смерти Феодора Емельянова на полгода назад. По этой версии, мальчик вышел из дому не 22 апреля 1823 г., а 1 октября 1822 г. Был праздник Покрова, и мать его Агафья, зарабатывавшая продажей на базаре горячей лапши, накануне уехала в близлежащее селение Чепли, на Покровскую ярмарку, оставив мальчика одного, без всякого присмотра. Федор не усидел дома и пошел разыскивать маму. Пошел он по той дороге, по которой мать все лето водила его с собой в Смоленское предместье на огороды. Она нанималась их полоть. С Сибирской улицы, где находился домик Емельяна Иванова, ближайший путь к Смоленскому предместью лежит через лесок Гуторов Крыж. Дойдя до леска, мальчик сбился с дороги, заблудился в кустах и замерз. Всю зиму он пролежал под снегом и только на следующую весну был случайно найден прохожим.
Эта версия всегда казалась местным евреям наиболее достоверной, потому что прежде всего значительно смягчала обстоятельства, на основе которых был составлен заговор. Пропавший, а не убитый мальчик – это совсем иное дело. Кроме того, версия эта делает более понятным поведение Анны Еремеевой и Марьи Терентьевой. Они предсказали то, что уже свершилось, поскольку мальчика не было в живых. Он погиб от холода.
Версия эта была утопической. Время смерти ребенка было запротоколировано в деле с абсолютной точностью. Но велижские евреи упрямо настаивали на том, что все началось со случайной находки трупа. Что Феодор Емельянов погиб в результате несчастного случая, а не принял мученическую смерть. И пусть уличавшая евреев Марья Терентьева, подробно описывая, как она истязала несчастного ребенка, приходила при этом в неописуемое исступление и из глаз ее, в которых застыл ужас, лились самые настоящие слезы, они все равно были убеждены, что она возводит на себя напраслину и рассказывает то, что ей кем-то внушено и чего на самом деле не было. Что кровавый призрак, сделавший их существование кошмаром, к живому ребенку не имеет отношения. Заговорщики, ища повода, просто ухватились за труп.
Множество людей заплатили жизнью за ложь, за злобу, которой не заслуживали, но впереди всех в этом списке умерших, в этом мартирологе идет младенец Феодор трех с половиной лет, чья ранняя могилка первой поднялась на высоком берегу Двины – там, где ниже города река делает второй свой поворот, отражая в голубых волнах невысокую ограду придвинувшегося к самому берегу Михайловского, бывшего униатского, кладбища. И уже после того, как ребенок нашел там свое последнее упокоение, земля старого еврейского кладбища на противоположной окраине города стала тоже укрывать в своих недрах одного за другим тех, чья гибель была страшна, а вина придумана палачами. С ними в глубь могилы ушли их страдания, их страх, их скорбь. Кому, однако, могли понадобиться эти гекатомбы?
III
Оставаясь в той эпохе, среди ее немногочисленных памятников, пощаженных временем, а также пожарами, за восемьдесят лет совершенно изменившими внешний вид города, мы должны отвести взор от затерянной в траве могилки младенца Феодора на Михайловском кладбище и перевести его на высокую каменную громаду храма св. Илии, высящуюся над городом на углу Ильинской и Слободской улиц.
Странная невидимая нить с первого же момента возникновения велижского дела протянулась между этими двумя точками – из одного конца Велижа в другой. Священник («местоблюститель») Ильинской униатской церкви Маркел Тарашкевич с самого начала работы следственной комиссии играл при ней несколько необычную в таких обстоятельствах роль «увещателя» трех христианок, признавшихся уже в своих преступлениях и ничего решительно от следователей не скрывавших. «Увещания» эти производятся каждый раз, когда в показаниях трех самообличительниц обнаруживаются какие-нибудь существенные разногласия. После этого они чрезвычайно удачно «приводят себе и друг другу на память» все детали события, и разноречие устраняется. В таких случаях «увещания» производятся не в помещении самой комиссии, а в той же Ильинской униатской церкви или же, еще чаще, на дому у самого Тарашкевича, куда женщины, по объяснению следственной комиссии в ответ на запрос сената, «не отпускались, а посылались и посылаются... для истребления в них приметных еще остатков еврейской веры»8. Священник Тарашкевич – не только «увещатель при следствии», но и «духовный отец» доказчиц9. Из Ильинской же церкви были будто бы теми же доказчицами в разное время похищены и преданы поруганию в еврейской школе святые дары и антиминс. В 1813 и 1817 гг. христианские мальчики и девочки будто бы пропадали или по дороге в Ильинскую церковь, или на обратном пути из той же церкви. Словом, Ильинская униатская церковь постоянно находится в центре происшествий, из которых, удачно или неудачно, формируется тот или другой ритуальный процесс10. Какая же роль выпадала во всех этих случаях на долю если не на самих униатских каноников, то по крайней мере добровольных ревнителей католической унии из темной, невежественной массы?
Каменная, двуглавая, огромная по величине, незаурядная по архитектуре Ильинская церковь начала строиться в 1772 г., в год перехода города от Польши к России. Это, несомненно, был акт скорее политический, чем религиозный; ему следовало служить противовесом новым влияниям, связанным с отторжением униатов от католицизма, казавшимся неизбежным после перехода населения в новое подданство. В 1780 г. здание было закончено, а в 1781 г. совершено было при многочисленном стечении народа и с необычайной торжественностью освящение церкви известным полоцким униатским архиепископом Иасоном Юношей Смогоржевским, тайным ревнителем католицизма и врагом православия11. Через несколько лет после освящения строители церкви и ее «распорядители» стараниями епископа получили из Рима от папы Пия VI индульгенцию на латинском языке12.
Дальнейшая история унии в районе Велижа есть история борьбы с православием, борьбы, в которой партизанские выступления темного, приведенного в состояние фанатизма населения часто значительно превышали тот предел, до которого простиралось влияние католического духовенства13. Путь религиозного воздействия на массы посредством возбуждения ритуальных дел против евреев – это был путь старый, испытанный и дававший очень хорошие результаты (Ленчицкий процесс 1639 г., Слуцкая история 1690 г., Паволоцкое дело 1753 г.). И было бы странно, если бы в поисках средств для создания в массах известного настроения ревнители унии упустили из виду и этот способ.
В самом начале прошлого столетия русское правительство ассигновало значительную сумму денег на устройство в г. Велиже православного храма. Но городской голова, униат Короновский, употребил отпущенную из казны сумму на постройку костела, за что и был отдан под суд. В 1810 г. приступили к сооружению нового грандиозного Свято-Духова униатского храма в центре города, на углу Базарной площади и Духовской улицы. По плану ограда нового храма почти непосредственно примыкала к ограде помещавшейся на соседней школьной улице главной еврейской синагоги (она же – Большая синагога и Большая школа).
Синагога эта была построена в пятидесятые годы XVIII столетия, когда город еще находился под властью Польши, из дубовых брусьев и по особому плану. Она представляла собой грандиозное, отличавшееся прекрасным стилем здание – с высоким острым шпилем и узкими стрельчатыми окнами. Их переливавшиеся на солнце разноцветные стекла смотрели во все стороны света. Синагога была выше всех соседних домов, и при приближении к городу первою бросалась в глаза еще издали. Восемнадцать молелен ютились в ней и вокруг, и под ее высоким куполом могли одновременно поместиться более двух тысяч человек14.
При тогдашних настроениях «давивший» все соседние здания своей старинной стильной архитектурой еврейский храм, неожиданно для себя очутившись в центре узкого пространства, образовавшегося между католическим Успенским костелом, с одной стороны, и вновь сооруженным униатским собором, с другой, не мог, конечно, не почувствовать некоторой тревоги за свою судьбу. И действительно: на небе вскоре стали собираться первые черные тучи нависающей над евреями мощной грозы, и первый удар молнии поразил именно высокий шпиль старой синагоги.
Весною 1823 г. Свято-Духов униатский собор был закончен постройкой и освящен, и тогда же на Гуторовом Крыже был случайно найден труп младенца Феодора Емельянова.
IV
Вокруг высокой старой синагоги, в тесном единении с нею, жило бойкое многотысячное еврейское население, деятельное, энергичное и трудовое, державшее в своих руках почти всю местную промышленность и торговлю. Столетия спокойного и благополучного пребывания под покровительством польских королей, их привилегии15 развили в них самодеятельность, и в конце XVIII и начале XIX столетий велижская еврейская община достигла наибольшего своего расцвета.
В городском и сословном самоуправлении евреи занимали выдающееся положение, и численный состав выборных от евреев превосходил число избираемых христиан16. Лесное дело было целиком в руках евреев. Сплав на Динабург и Ригу сосредоточивался в руках евреев; почти весь мелочной торг, торговля красными товарами и питьем – все это было исключительно делом евреев. Центральная часть города, базар и примыкающие к нему улицы были застроены еврейскими домами и торговыми складами. Евреи владели недвижимостью и вне пределов города, приобретая в собственность или же арендуя близлежащие имения. Шмерка Берлин, например, владел селением Красное; брат его Меер держал в аренде имение Крутое; имение Плоское состояло в аренде у Ноты Прудкова; еврей Шолом арендовал корчму «Семичевую», Брусованские владели имением Брусованка, Лейзер Зарецкий держал корчму «Лобок»17 .
Самый же большой и богатый дом в городе принадлежал Мирке Аронсон. Огромное угловое каменное здание в два этажа, с мезонином одним своим фасадом выходило на Базарную площадь, другим – на Ильинскую улицу. В этом доме, кpoмe старухи Мирки, жила дочь ее Славка с мужем, 3-й гильдии купцом Шмеркой Берлиным, сыном Гиршей Берлиным, женатым на Шифре, и дочкой Ланкой, славившейся своей необычайной красотой. Жених этой последней, Янкель-Гирш, жил у своего отца, бывшего бургомистра Шмерки Аронсона, старшего сына Мирки. Два других ее сына, Носон и Моисей Аронсоны, обитали поблизости, на той же улице, а дочь Лея жила в Петербурге в замужестве за Гиршем Броудо. Брат Шмерки Берлина, Носон, жил на Петербургской улице против ратмана Евзика Цетлина. Другой же брат, Меер, поселился в имении. По субботам и праздникам в огромном доме Мирки собиралась вся семья, и тогда за стол садилось около сорока человек. Горничная Паша (впоследствии Козловская) еле поспевала убирать комнаты, кухарка Гене-Михля едва управлялась на кухне. Двери дома постоянно были открыты для нищих всякого звания, и промышлявшая подаянием никому неизвестная Терентьева не раз переступала порог этого дома, чтобы уйти из него с туго набитой торбой. Высокие амбары во дворе были полны разнообразных товаров, и нагруженные доверху возы длинными вереницами въезжали и въезжали во двор, искусно направляемые опытной рукой главного приказчика Берлиных Иоселя Мирласа. Широкие ворота закрывались только на ночь, и два ночных сторожа, Абрам Глушков и Иосель Турновский, оба старенькие и оба глухие, лениво перестукивались с обоих концов двора, поочередно засыпая на крылечке.
В нижнем этаже дома, со стороны базара, помещалась большая питейная контора, принадлежавшая Берлину, а со стороны Ильинской улицы находился лучший в городе гастрономический магазин Баси Аронсон, к которому особенно часто любили подъезжать поляки-помещики и высшее начальство города. Рядом помещался небольшой кабачок шляхтича Козловского. Никто из «чистой» публики его не посещал, потому что вся местная чиновная аристократия предпочитала угощаться исключительно у Ханы Цетлин. У Козловского постоянный приют находили только вечно пьяная нищенка Марья Терентьева и «воскресшая из мертвых» девица Анна Еремеева, с которой сам содержатель кабачка состоял в каких-то особенных отношениях. И здесь же, перед крылечком, раскинувшись поперек оживленной и шумной улицы, вечно валялся пьяный до бесчувствия сапожник Петька Азадкевич.
Кабачок торговал очень плохо, потому что всю торговлю в своих руках держали Хана Цетлин и Носон Берлин. К Анне Еремеевой, когда она неожиданно «обмирала» на крыльце у Козловского, чтобы тут же начинать предсказывать, шел народ недужный, темный и нищий. А нужно было, чтобы «представления» (видения) Еремеевой оказались способны остановить на себе внимание куда более значительных лиц...

Большая синагога в Велиже (сгорела в 1868 г.).
25 марта 1823 г. Еремеева, как известно, предсказала, что ровно через месяц «одна христианская душа будет загублена евреями». В ночь на Светлое Христово Воскресение она уточнила, что мальчик, которого она видела в первом своем «представлении», будет претерпевать мучения «в иудейском, что против зарева, на рынке, большом угловом каменном доме». На третий день праздника Марья Терентьева наворожила матери пропавшего мальчика, что сын ее находится в доме еврейки Мирки. При этом она настоятельно посылала ее проверить предсказание к Анне Еремеевой в Сентюры, но советовала, чтобы по дороге к Еремеевой она, хотя бы на минутку, зашла в дом Мирки, что та в точности и исполнила. Еремеева же, повторив ей слова Терентьевой, прибавила, что по дороге к ней она заходила в тот самый дом, где в настоящее время находится ее мальчик.
Известно также, что мать пропавшего Феодора не пошла искать его по точно указанному ей двумя женщинами подробному адресу (погреб в доме Мирки Аронсон). Можно, однако, безошибочно предположить, что если бы Агафья Емельянова пошла по указанному следу, она бы в тот же день нашла своего пропавшего сына еще живого, хотя, может быть, и наполовину замученного18, и нашла бы его именно в доме Мирки, в погребе, по крайней мере в той его части, с которой Козловский, как квартиронаниматель, имел беспрепятственное общение.
В доме Мирки Агафья, однако, сына своего на третий день праздника не искала, и последствия, которые были предсказаны Еремеевой на случай, если этот предельный срок будет упущен, снова сбылись с поразительной точностью. Ребенок был умерщвлен, и как раз тем, по-видимому, особенным способом, который заставил штаб-лекаря в пункте «е» своего свидетельства сделать заключение, что «солдатский сын рассудительно замучен», и подробности которого с такой ужасающей последовательностью и точностью описывала на следствии в минуты исступления Марья Терентьева.
Нет, Марья Терентьева, по-видимому, не лгала, когда подробно рассказывала следователям, каким образом она мальчика колола, обмывала, снова колола, как мочила в его крови кусочек холста, который был потом действительно найден зашитым в ее ватной кофте. Она не лгала и тогда, когда утверждала, что все это происходило в доме Мирки Аронсон. Это происходило именно там, но двумя этажами ниже и в другом конце огромного здания.
Она только в первое время не могла с точностью указать следственной комиссии, куда маленький трупик девался. Первоначально, наверное, предполагалось бросить его в воду; но уже без ведома Терентьевой тело мальчика свезли за город и положили на кочку. Это ее несколько смущало. Однако после первого же «увещания» местонахождение трупа сделалось ей известным, и Терентьева «привела себе на память», что труп был отнесен за город и брошен на то самое место, где он впоследствии был найден19.
V
От Гуторова Крыжа, где лежал исколотый мальчик, липкий кровавый след первоначально потянулся только по двум строго указанным направлениям: в дом Мирки Аронсон на Базарной площади и в шинок Ханы Цетлин на Петербургской улице. В то время от него еще было далеко до центра местной еврейской жизни, Большой синагоги, далеко и до тех больших и маленьких домов, в которых ютилось все остальное еврейское население города. Взмах занесенной над евреями властной руки еще не был так широк, и удар предназначался не еврейству en masse, а конкретным, определенным представителям нации. Да и не по плечу было одной только Марье Терентьевой, даже при содействии душевнобольной Еремеевой и беспутно-пьяного Азадкевича, сочинить и разыграть столь масштабное действо, которое позволило бы отправить на эшафот практически все велижское еврейство. Для сведения личных счетов ей в то время могло показаться совершенно достаточным уничтожить, разорить дом Мирки, заковать в кандалы ненавистную ей Хану Цетлин. Из всего ее предприятия не получилось ничего, кроме вынесенного ей же самой довольно сурового приговора «за ворожбу и блудное житие». Предприятие сорвалось, и кровавый призрак вроде бы исчез из глаз. Кровь младенца Феодора, казалось, была пролита напрасно.
В то время Терентьева и не подозревала, что содеянное ею еще понадобится и настоящее люди, которым она будет нужна, придут только через два года.
Для того, чтобы над заросшей могилкой младенца Феодора снова замаячил полузабытый призрак, понадобились две вещи. Во-первых, местному униатскому духовному начальству следовало смениться почти в полном своем составе. В начале 1825 г. на место умершего униатского священника Лаврентия Перлашкевича был назначен молодой, ловкий и в высшей степени умный Маркел Тарашкевич, а велижского декана, прелата Савинича, сменил каноник Калиновский. Во-вторых, во главе витебского, смоленского и могилевского генерал-губернаторства должен был стать князь Николай Николаевич Хованский.
Хованский прибыл в Витебск из Петербурга в конце 1823 г., но в феврале 1824 г. снова вернулся в столицу для представления начальнику главного штаба Дибичу новых подробных объяснений по делу об убийстве Феодора Емельянова, случившемся при его предшественнике. Это было время, когда в высших придворных и административных кругах столицы, под влиянием возбуждающих речей архимандрита Фотия, велась отчаянная агитация против министра народного просвещения и духовных дел князя А. Н. Голицына, с именем которого был связан знаменитый циркуляр от 6 марта 1817 г., запрещавший обвинять евреев в умерщвлении христианских детей с ритуальными целями. После торжественного провозглашения архимандритом Фотием анафемы «духовному Наполеону», «вождю нечестия» Голицыну последний пал, и Аракчеев бесповоротно сомкнул два звена цепи: государство и церковь. И сам выступил олицетворением этого единства. Хованский был одним из его ставленников и по возвращении на место своего нового служения начал немедленно обнаруживать незаурядное рвение.
В подведомственных ему губерниях, особенно в Витебской и Могилевской, евреи жили не только в местечках и городах, но также и за чертой городских поселений, на помещичьих землях. Знаменитая 34-я статья «Положения о евреях» 1804 г., хотя официально и не отмененная, фактически не применялась после трехлетней работы Комитета о евреях (1809 – 1812 гг.). В Велижском уезде сельское еврейское население благодаря издавна сложившимся добрым отношениям с тамошними помещиками было особенно многочисленно и богато. Евреи не только содержали здесь корчмы, но брали в аренду также и мельницы, и заводы (Шмерка Берлин имел собственный стеклянный завод), и целые имения.
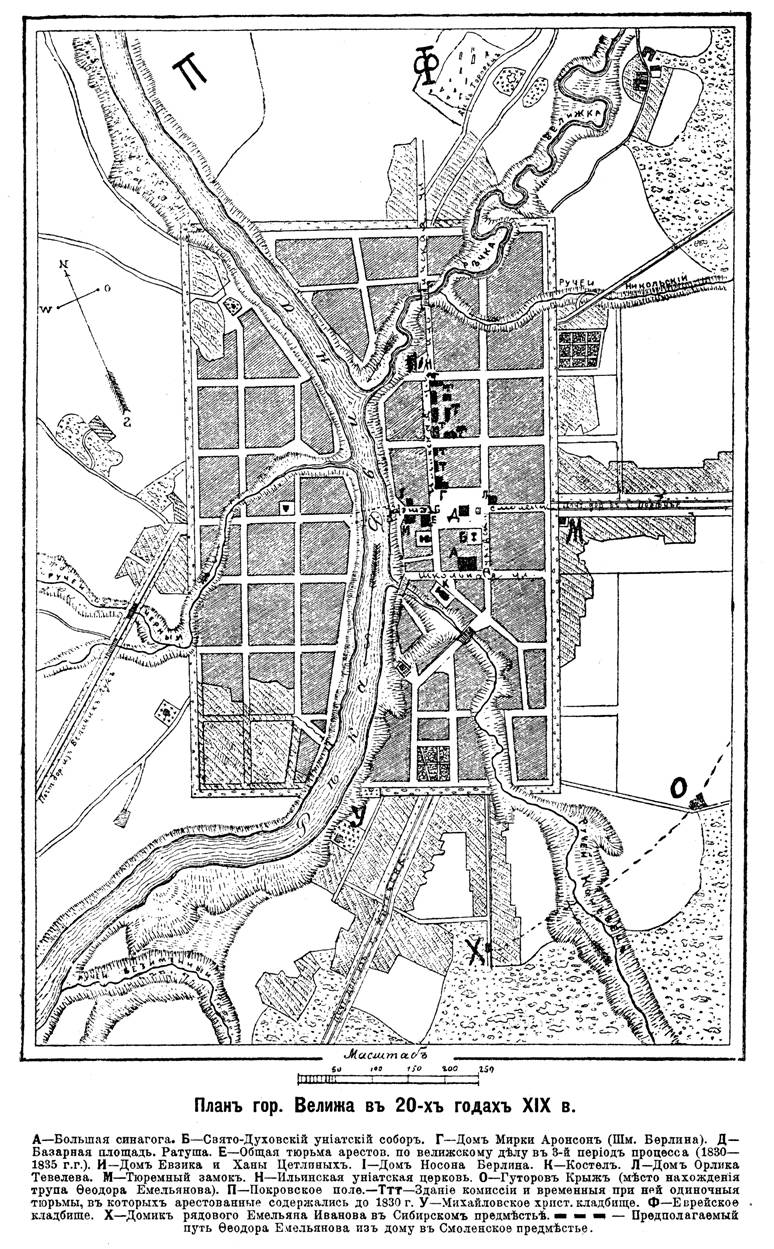
Хованский приступил к решительному выселению евреев из окрестных селений в город без всяких послаблений. Никакие ходатайства об отсрочках, никакие хлопоты самих помещиков о дальнейшем оставлении у них евреев ни к чему не приводили, и всю зиму 1824 – 1825 гг. в город целыми вереницами тянулись подводы, на которых евреи перевозили с насиженных мест остатки своего разоренного хозяйства, предвидя будущую нищету и лишения. На месте искать защиты было не у кого, и обездоленные люди только и ждали случая, чтобы как-нибудь донести свою обиду до сведения высшей власти.
Случай этот представился в начале осени 1825 г.
Император Александр I совершал свою последнюю поездку на юг. Он выехал из Петербурга 4 сентября по Белорусскому тракту, но на границе Псковской губернии повернул через Торопец на Тульский. 10 сентября царь добрался до Велижа, где имел дневку и делал смотр войскам на Покровском поле. На обратном пути со смотра, при въезде на высокий деревянный мост через речку Велижку, он был встречен поджидавшей его группой представителей местного еврейского населения во главе с купцом Шмеркой Берлиным, бывшим бургомистром Шмеркой Аронсоном и ратманом Евзиком Цетлиным. Здесь же находились и почти все остальные евреи, недавно насильно выселенные из деревни в город.
– Государь, помилуй! – раздалась общая мольба.
Один из евреев (по преданию, Нота Прудков) вскочил на подножку экипажа, держа в руках бумагу – жалобу на действия Хованского.
Государь слегка отстранился, и бумагу принял сидевший рядом с ним начальник главного штаба барон (впоследствии граф) Дибич.
Сопровождавшие императора казаки оттеснили толпу просителей, и экипаж отправился далее по Ильинской
улице. На Базарной площади у здания ратуши государь остановился. Здесь его ждало с хлебом-солью именитое
местное купечество, а также генерал-губернатор.
– Твои приятели меня только что атаковали! – улыбаясь, сказал государь, подавая руку князю.
Из рядов выступил городской голова Хрулевич, чтобы сказать приветственное слово.
Но в эту минуту к Александру I рванулась какая-то низкорослая, бедно одетая женщина.
– Батюшка, Государь! Услышь мольбу несчастной матери...
Она упала на колени, из глаз ее брызнули слезы.
На голове у нее лежало сложенное вдвое прошение.
Ее быстро окружили, подняли и арестовали.
Это была Марья Терентьева.
Стоявший невдалеке Азадкевич шарахнулся в сторону и быстро смешался с толпой.
В тот же день Дибич передал обе бумаги князю Хованскому.
VI
В октябре 1825 г. из Витебска в Велиж прибыл чиновник для особых поручений при генерал-губернаторе – надворный советник Страхов.
Отправляясь к месту назначения, он получил от князя категорический приказ строжайше расследовать дело об умерщвлении евреями Феодора Емельянова, судьбою которого заинтересовался сам государь.
Он приехал инкогнито и в течение шести недель скрывался от всех. Переодеваясь и гримируясь, часто бродил, смешиваясь с толпой, по базару, заходил в шинок Ханы Цетлин, фланировал по Школьной улице вокруг Большой синагоги, а по вечерам, сидя дома, усердно и внимательно изучал литературу.
Преподаватель уездного училища Петрища любезно перевел для него с польского на русский книгу Пикульского «Злость жидовская»20; священник Маркел Тарашкевич охотно принимал его у себя; их оживленные беседы часто длились далеко за полночь и происходили при спущенных шторах и плотно запертых ставнях. Представитель местного дворянства, поветовой маршал Алексианов слыл вольнодумцем и другом евреев21, но и он мог дать кое-какие ценные сведения о тех, с кем, как местный помещик, находился в довольно тесных сношениях. И визиты Страхова к Алексианову были почти так же часты, как и посещения городского головы Хрулевича. Приехавший вместе со Страховым для участия в расследовании дела штабс-ротмистр Бенкендорф оказался большим формалистом и слишком уж педантично относился к букве закона. Он связывал Страхову руки, и по открытии деятельности комиссии был почти сразу отослан обратно в Витебск22. Содействовавший членам комиссии при производстве следствия полицмейстер Воронец обнаружил недостаточную расторопность и поэтому в наиболее серьезных случаях заменялся земским исправником князем Друцким-Соколинским, в высшей степени исполнительным и бравым экс-капитаном. Так или иначе, но комиссия едва только успела начать свои правильные действия, как в ее распоряжении уже 22 ноября 1825 г. оказалась обвиняемая, добровольно признавшаяся в истязаниях и умерщвлении Феодора Емельянова.
Это была Марья Терентьева.
За два месяца до того она на площади всенародно, в присутствии властей предстала перед государем в роли неутешной матери безвинно загубленного сына, за кровь которого вот уже два года бесплодно требует возмездия евреям. А годом раньше она давала показания перед следственной комиссией по тому же делу, но лишь как случайный очевидец похищения мальчика еврейкой Цетлин, после чего (по позднейшему разъяснению Страхова) «не за лжесвидетельство, а лишь за ворожбу и блудное житие» была подвергнута наказанию.
По-видимому, церковное покаяние все же оказалось бессильно излечить эту женщину от ее главного порока. «Блудное житие» Марьи Терентьевой не только не прекратилось, а, напротив, с момента открытия деятельности комиссии Страхова приняло особенно откровенную форму. Теперь это тоже был сплошной «блуд», но словесный.
«Я, Марья Терентьева, собственными своими руками колола и резала мальчика сперва в доме Мирки, а потом в большой жидовской школе вместе с тобою, Ханка, и вместе с тобою, Евзик, и еще многими и многими евреями. Ты, Славка, подостлала под ним белую скатерть; ты, Шифра, маленьким ножичком обрезала ему на руках и ногах плотно к телу ногти; ты, Поселенный, бритвой или похожим на оный ножом отрезал у него кусочек кожицы. Ты, Орлик, подал мне светлое, похожее на иглу со шляпкою железо, которым я первая кольнула мальчика под пазухой в левый бок. Ты, Иосель, подвел меня к шкапику, перед которым евреи молятся Б-гу, обратил меня в жидовскую веру и назвал Лейею; ты, Руман, заставил меня перейти через жидовский огонь и поставить на горячую сковороду сперва левую, потом правую ногу; ты, Янкель, положив предо мною тетрадку с изображением святых, приказал мне плюнуть в них девять раз...»
Так говорила Терентьева (а вслед за нею и повторявшие слово в слово ее речи Максимова и Козловская) на очных ставках с «изобличаемыми» евреями, обливаясь при этом горючими слезами, слезами ужаса и раскаяния. А комиссия вместе с первоприсутствующим генералом Шкуриным и Страховым жадно ловила каждую фразу, тут же занося ее в протокол и сопровождая замечаниями на тот счет, что евреи «под действием сих улик» менялись в лице, плакали, вздыхали и отпирались, «ясно обнаруживая стачку». Что Хайка Черномордик «побледнела зверским образом»23 а Славка Берлин отвечала с «остервенением и злобою», и следователи, «дабы дать ей почувствовать замеченные в ней изменения, заставили ее посмотреться в зеркало»24. Обстоятельно и подробно следователи записывали в протокол, как «еврей Мирлас слушал про улики, злобно улыбаясь, а когда взглянул на показанный ему лоскуток кровавого холста, мгновенно побледнел и, схватившись за живот, пришел в совершенное изнеможение»25; как у Ицки Беляева на очной ставке с Терентьевой «нижняя губа была в непрерывном движении и тряслась, что происходило, как полагать должно, от злости»26; как Абрам Кисин «смотрел на присутствующих блуждающими глазами» и, наконец, «упавши вниз лицом на пол, повторял: помилуйте! ратуйте!»27 Очень картинно изображалось, наконец, как Шифра Берлин на очной ставке с Максимовой «впала в истерический припадок с сильными судорожными во всем корпусе движениями и кривляньями лица» и как, «увидев cиe, Максимова объявила, что точно такие же кривляния лица и судороги во всем корпусе были и с солдатским сыном во время умерщвления его в большой еврейской школе» 28.
Все это комиссия Страхова тщательнейшим образом заносила в протокол, как единственный против евреев, хотя и с «полнейшей несомненностью изобличающий оных», материал. Но с не меньшей обстоятельностью было занесено в тот же протокол и неожиданное заявление Терентьевой (после «непризнания» ею Шифры Берлин, виновность которой в преступлении почему-то особенно нужна была Страхову), что «назло следователю евреев уличать не станет» 29.
Уличать или не уличать евреев Терентьева и ее подруги соглашались только в зависимости от настроения Марьи и отношений ее со Страховым. Когда отношения эти были хороши, следствие подвигалось вперед беспрепятственно и тюремные двери широко раскрывались перед новыми и новыми жертвами. Когда же отношения почему-либо портились, все дело на время приостанавливалось, визиты Страхова к священнику Тарашкевичу учащались и отсылки доказчиц к духовному отцу для новых «увещаний» становились все более многочисленными.
Странная судьба связала следователя Страхова с Терентьевой и двумя оговоренными ею христианками. В одном доме, под одной крышей жили все четверо30. Хороший уход, вкусная пища, приличная одежда, постоянные прогулки и приемы у себя (чаще всего Петрищи и Азадкевича) – все это должно было создать доказчицам такие условия, при которых Страхову никакого труда не стоило добиваться от них тех именно показаний, какие ему были нужны31. Но и за всем тем капризные выходки всех троих и в особенности Терентьевой не раз доставляли ему неприятные минуты. Капризы эти возрастали по мере «разрастания» самого следственного материала и главным образом вследствие естественного душевного утомления доказчиц, на долю которых выпала трудная обязанность не только повторять слова, влагавшиеся им в уста, но и оставлять место также и для собственного творчества32. По временам они не только отказывались отвечать, но и прямо отвергали свои же собственные прежние показания, вступая между собою в пререкания и драки, причем Страхову приходилось в комиссии самому их разнимать и мирить33. И по мере того, как количество подобных случаев росло, нервное напряжение Страхова усиливалось и душевное равновесие все больше и больше его покидало. В одиночных камерах, где он тоже чаще, чем раньше, оставался по вечерам один на один с допрашиваемыми, раздавались громкие крики истязуемых, и нечеловеческие стоны далеко разносились вокруг, собирая под заколоченными окнами домов, превращенных в тюрьмы, толпы обезумевших от скорби евреев. В комиссии на допросах Страхов теперь то и дело бросался с кулаками на Славку Берлин, на Евзика Цетлина и других, деятельно «вразумляя» их говорить правду. Наказание плетьми арестованных в присутствии остальных заключенных теперь становилось уже обязательным и повседневным явлением. Страхов явно чувствовал, что следствие, слишком затянувшееся, вопреки ясно выраженной воле государя поскорее доискаться «до корня», может зайти в тупик, понимал, что собственное признание евреев в умерщвлении ими Феодора Емельянова теперь совершенно необходимо, ибо «единогласные» показания трех доказчиц начинают терять прежние четкость и уверенность. А их не могли заменить ни литературные опыты добровольно явившегося в комиссию для составления перевода некоей несуществующей «Гандомы» крещеного еврея Грудинского, ни научные изыскания раздобытого откуда-то Страховым другого выкреста из евреев, ксендза Паздерского...
В 1828г. по распоряжению генерал-губернатора двое членов комиссии отправились вместе с Терентьевой в Витебск и Лезну для опознания тех домов, куда она, по собственным ее словам, в 1823 г. отвозила кровь, и тех лиц, коим кровь эта была ею передана. В Витебске она, однако, в первый же день сбилась, запуталась и своего оговора подтвердить не смогла. А в Лезне прямо заявила, что уличать никого не может, «чтобы не осталось у нее на совести и чтобы не оговорить кого, Боже сохрани, напрасно...»
Кровавый узел готов был, казалось, распутаться, когда Страхову вдруг блеснул последний луч надежды. В комиссию явился ксендз Лукович и заявил, что Грудинский, уже уличенный однажды во лжи Паздерским, открылся ему, Луковичу, и рассказал, что некогда совершил ритуальное злодеяние, совершил лично, но в присутствии многих евреев, в местечке Бобовне. Метод самообличения с целью изобличения евреев был хорошо знаком Страхову; при нем он впервые и был использован в велижском процессе. И – кто знает? – может быть, Грудинскому именно и было суждено довершить наконец то, что теперь оказалось уже не под силу усталой, измученной, замордованной допросами Терентьевой?
Дальнейшие события сложились, однако, совершенно неожиданно для Страхова.
Для проверки показаний Грудинского из Петербурга прибыл подполковник Рутковский. Он повез Грудинского в Бобовну, и там замысел лжеца был тотчас же обнаружен. Он признался, что ни в каких убийствах христианских мальчиков никогда не участвовал, показания же его в велижской комиссии были им измышлены для того, чтобы улучшить свое материальное положение щедротами следователя Страхова.
26 марта 1830 г. последовало высочайшее повеление наказать Грудинского плетьми и сдать в солдаты. А через несколько дней после этого Страхов был найден в своей постели мертвым.
VII
Кончиною Страхова завершился второй, наиболее мрачный период велижской эпопеи.
Пять лет подряд этот железный человек держал в своих руках судьбы многотысячного еврейского населения. Никто не знал, какая мысль сверлит его усохший, желтый, безволосый череп, какая загадка запечатлелась на тонких, крепко сжатых губах. Ужасом веяло от его неподвижного холодного взгляда, и длинные костлявые пальцы, когда они сжимались в кулак или гневно бились о деревянную крышку стола, казались протянутою из мрака рукою смерти.
Один, в сопровождении своего огромного сенбернара, он иногда показывался на улице, и взрослые испуганно отходили в сторону, а дети с криком бросались врассыпную. Через 50 лет после его смерти еврейские матери еще унимали своих плачущих малюток именем Страхова. Да и теперь, 80 лет спустя, его имя редко произносится среди велижских евреев без проклятий.

Граф Н. С. Мордвинов.
Страхов!.. Никто из евреев ни минуты не сомневался в том, что душою всего дела в этой его фазе является именно он, что в руках Страхова сосредоточены все пружины адского заговора. В комиссии хозяйничал не губернский стряпчий или заседатель и даже не флигель-адъютант в шитом золотом мундире с аксельбантами и шарфом, а именно он, маленький сухонький человечек в зеленом сюртучке с желтыми пуговицами и без всяких орденов. К его голосу прислушивался не только генерал-губернатор Хованский, его мнение имело вес и в Петербурге. И когда в сентябре 1826 г., накануне Рош а-Шона, велижских евреев постигло ужаснейшее, неслыханное дотоле бедствие – опечатание молелен и арест в присутствии полиции священных свитков Торы, все знали, что это дело рук Страхова. И когда вслед за тем евреям было запрещено не только собираться где бы то ни было для совершения молитв, но даже останавливаться на улицах – хотя бы вдвоем или в одиночку, все знали, что «осадное положение» это введено по инициативе того же Страхова. В городе в конце концов не осталось уже почти ни одного заметного еврейского дома, откуда не были бы, без всякого предупреждения, взяты люди, закованы в кандалы и рассажены по одиночным камерам. Евреи и тут знали: Страхов на этом не успокоится и пойдет дальше.
Пять лет жили люди в этом гнетущем кошмаре. Большая синагога сиротливо стояла посреди широкого двора, зимою занесенного снегом, летом густо заросшего бурьяном и крапивой34. Черная железная цепь опоясывала ее с четырех сторон, и часовой инвалидной команды мерно шагал вдоль цепи, позвякивая вскинутым на плечо тяжелым ружьем. Все замерло, все притаилось. Евреи скрывались дома, никуда не выезжали, никого не принимали у себя. Частная переписка конфисковывалась, и город оказался отрезанным от всего мира35. Священные книги, после тщательных обысков в частных домах, отнимались и сдавались «на присмотр полиции». Для отправления богослужений евреи собирались в погребах и проводили там долгие часы без света и воздуха36.
Самые большие дома в центральной части города или стояли наглухо заколоченными, так как все жители их сидели под арестом, или были отведены под тюрьмы. Количество тюрем росло с каждым днем, и ни один человек, вступая туда, не мог поручиться, что когда-нибудь снова вернется на волю37. Глухой мрак окутывал велижских евреев со всех сторон, и неоткуда было ждать просвета.
Томившиеся в заключении по-разному реагировали на постигшую их беду. Одни усматривали в действиях Страхова обычные преследования за веру. Другие воспринимали случившееся как шаг политический, за которым кроются некие непонятные на первый взгляд важные планы правительства. Третьи же были убеждены, что все дело имеет чисто практическую подкладку: просто идет яростная экономическая борьба между евреями и христианами. Но все сходились в одном: велижская история вышла далеко за рамки местных проблем и превратилась во всееврейскую. И поэтому каждый заключенный был уверен, что претерпевает страдания за весь еврейский народ; сознание это давало ему силы нести свою ношу мужественно и даже с радостью.
Хаим Хрипун, к примеру, был уверен, что Страхов вместе со всей своей комиссией появился исключительно для того, чтобы закрыть еврейские молельни и всех обратить в христианство. Он был меламедом, до тонкостей знал Талмуд, и в его мозгу напряженно работавшем только в определенном направлении, все переживаемое выглядело новой «гзейрой», имеющей целью окончательное искоренение народа Израилева. Готовность принять мученическую смерть («ал кидуш а-Шем») созрела у него уже после первого допроса.
– Что касается меня самого, – заявил он комиссии, – то мне ничуть не страшно сидеть в остроге, потому что, видно, так угодно Б-гу, а от Б-га надобно принимать и хорошее, и худое. Но если нужно, я готов дать себя повесить.
Когда ему стали известны показания Терентьевой, он с наивной убежденностью принялся уверять комиссию, что она лжет, ибо он, еврейский учитель, знает все еврейские книги и ни в одной из них не сказано, что евреям нужна какая бы то ни было кровь.
Довод его, однако, показался слушателям неубедительным. Страхов, разумеется, продолжал настаивать на том, что младенец Феодор был замучен и убит евреями, которым необходима христианская кровь. И тогда Хаим, первым из заключенных, бесстрашно крикнул ему в лицо:
– Вы! Вы мучаете и убиваете нас! Вы хотите пить кровь наших детей!
Он жил в уверенности, что станет искупительной жертвой за всех евреев; в записках, которые он писал на лучинках и бумажных лоскутках, краях тарелок из-под присланной пищи и прочих предметах, Хаим постоянно уговаривал своих: «Бегите по всем краям, где рассеян Израиль, и громко кричите: “Горе! Горе!” Пусть жертвуют жизнью, пусть взывают к Всемогущему: у нас уже нет больше сил молиться...»
«Знайте, – писал он в другой раз, – что замыслы их простираются очень далеко. Они хотят (не допусти Б-же) истребить весь израильский народ!..»
Впрочем, в заботах обо всем израильском народе он не забывал иногда и свои личные дела. Среди тарелок, в которых ему приносили пищу, однажды оказалась тарелка Страхова, и он спешит известить об этом жену, и просит, чтобы та оградила его от трефной посуды. В другой раз он требует сообщить ему, все ли уплачено меламеду за обучение его детей, не вышло ли, не дай Бг, какой-нибудь задержки…
Письма его неуклонно перехватывались Страховым, и на каком-то очередном допросе в комиссии по поводу их содержания Хаим уже, казалось, совершенно потерял ощущение опасности.
– Разбойники! – гремел он. – Обманщики! Бездельники! Вы уморили богатырей – Шмерку и Янкеля (Берлина и Аронсона). Они умерли в кандалах и были выкинуты из острога, как падаль! Но и вас может постигнуть то же самое...
Не меньше неприятностей причиняла комиссии Славка Берлин.
Гордая, властная, величественная, она и в тюрьме, несмотря на страдания, сохранила свою библейскую красоту. Тюрьма отняла у нее все. Один за другим умерли и были «выкинуты, как падаль», те, кого Хаим назвал «богатырями». Муж, жена сына, муж дочери – все ушли в лучший мир, оставив ее одну среди ужасов темницы. Где-то далеко сидел закованный в кандалы ее единственный сын Гирш. Из братьев не спасся никто. И при всем том огромная внутренняя сила одухотворяла ее, помогала выстоять – и когда неизвестные ей и жуткие пьяные бабы в лицо называли ее своей соучастницей в убийстве невинного христианского младенца, и когда Страхов с помощью кулаков «вразумлял» ее, как надо стоять перед комиссией, и когда генерал-губернатор Хованский останавливался у двери ее камеры, снимая треуголку и не смея переступить порог.
– Она рассказывает то, что ей велел Страхов, – убежденно и бесстрашно говорила она, выслушивая бесконечные показания Терентьевой и быстро оправляясь от волнения. – Но это ничего: Славка снова станет Славкой, а вы все будете наказаны.
В последние свои тюремные годы она категорически отказалась давать какие бы то ни было показания. Комиссия в сопровождении Шкурина и Беклешова приходила допрашивать ее в камеру, но она никого не удостаивала ответом.
Больше всего хлопот причинял комиссии Нота Прудков.
В тюрьме у него была одна только цель: немедленно разоблачить тех, кто устроил заговор против евреев. Он не был оговорен Терентьевой и попал в тюрьму лишь вследствие неосторожных попыток сойтись со Шкуриным и разоблачить перед ним Страхова. Ему казалось, что у Шкурина собственный, отличный от принятого, взгляд на дело, и поэтому шитое белыми нитками обвинение Страхова расползется по швам, едва только ему, Прудкову, удастся пролить свет на всю историю с кровавым наветом.
Попытки его, однако, успехом не увенчались. Перед комиссией он держался независимее всех.
– Вы сами разбойники! Вы все в комиссии разбойники!.. Вы на нас напали, вы нас разорили, подучиваете этих баб для того, чтобы истребить всех евреев... Но мы не боимся; лишь бы дело ушло из комиссии, вы тогда увидите, что ничего не будет. Мы наперед все знаем. А вас будут судить38.
В тюрьме Нота Прудков39 сделал подкоп, через который периодически сообщался с внешним миром, давая, кому нужно, необходимые разъяснения и получая извне сведения, потребные для дела, после чего добровольно возвращался в свою камеру. С целью вступить в непосредственные сношения с Хованским он однажды ночью бежал из тюрьмы и на небольшом ялике пустился в половодье вниз по Двине, чтобы попасть в Витебск. В Сураже, однако, был схвачен и снова водворен в камеру. Во второй раз он заявил комиссии, что желает дать весьма ценные для обвинения показания, но сделает это только с глазу на глаз самому Хованскому. Комиссия обрадовалась скорому исходу дела и отправила его в Витебск, но вместе с ним откомандировала также и Страхова. В присутствии последнего он, конечно, никаких разоблачений сделать не мог, и ожидания комиссии не сбылись.
Тем не менее он совершил третью попытку бежать – чтобы лично добраться до Петербурга. Но и она окончилась неудачей40.
Были и такие, что умели переносить свои страдания кротко и терпеливо.
– Я нахожусь в несчастии вот уже другой год, – спокойно заявил комиссии Ицка Нахимовский, – и от этого несчастия у меня только три вещи остались в полном здравии: память, язык и душа. Память будет помнить, язык будет говорить, а душа будет чувствовать правду насчет моей обиды, насчет моих мучений, насчет всего дела. И хотя дело это меня самого касается мало, но я должен спасать людей, потому что человек дорог Б-гу так же, как и государю... 41
А Иосель Мирлас подошел к происходящему с совершенно неожиданной стороны. Выслушав внимательно рассказ Терентьевой, он вдруг усмехнулся и покачал головой:
– Ай, Россия! Умеет учить! Правду говорят, что в России нет ничего невозможного! Россия умеет делать дела!.. Ей-ей, мастера! Бывало, деды наши говорили, что и в Польше на евреев устраивались оговоры. Но там хотели денег, и из этого ничего не выходило...42
Сломить упорство мужчин не было никакой надежды. Но и женщины держались стойко. Только один раз Фрадка Девирц, в минуту помрачения, начала лепетать перед комиссией нечто бессвязное, безумное. Из ее лепета Страхов тем не менее во что бы то ни стало пожелал извлечь обвинение против евреев.
– Горбатый школьник Руман... Он – черт. Все зло у него в горбу сидит... И он мне сказал, что солдатского сына, обрезавши сперва по еврейскому обряду, умертвили евреи в большой еврейской школе...
Радость комиссии была тем сильнее, что Фрадка обещала принести тот самый нож, которым было произведено обрезание мальчика, а также и оставшийся от этой операции кусочек кожицы, которые хранятся у нее в кровати под периной43.
И то и другое было ею действительно принесено… Только нож оказался, по определению самой комиссии, «простым тупым крестьянским ножиком», а вместо другой реликвии, кусочка ссохшейся кожицы («который, по неосторожности подпоручика Семенова, переломлен») в распоряжении дознавателей оказался... рыбий желудок.
Блеснувшая, было надежда добиться изобличения евреев их же собственными показаниями, неожиданно появившись, быстро исчезла. И когда, все в том же припадке безумия, Фрадка Девирц вышибла окно, чтобы осколками стекла перерезать себе горло, Страхов вынужден был признаться самому себе, что на самообличение подследственных расчеты плохи. Тем не менее он решил, что дело все-таки может быть благополучно доведено до конца, если умело использовать уже добытый материал.
Поведение Терентьевой в Витебске и Лезне, однако, сильно осложнило эту задачу. А приключение с Грудинским неизбежно должно было полностью разрушить возведенное им стройное здание обвинения.
В начале апреля 1830 г. он принял яд.
VIII
Последующие события показали, однако, что с самоубийством Страхов поторопился. Для того чтобы кровавый призрак, которому он отдал столько чужих жизней, а потом и свою собственную, исчез, время еще не настало. И оружие, неожиданно выпавшее из его рук, было тут же ловко подхвачено самим Хованским.
27 августа 1830 г. он представил всеподданнейший рапорт, где писал, что «…убедившись совершенно всеми обстоятельствами, следствием открытыми, вновь осмеливается повторить пред Его Императорским Величеством прежнее заключение свое, согласное с заключением следственной комиссии: солдатский сын Емельянов действительно умерщвлен евреями». Копия этого рапорта поступила на рассмотрение сената, и окончательное решение участи полусотни истерзанных долголетним заключением велижских евреев снова отодвинулось почти на целых пять лет.
Впрочем, этот третий и последний период велижской эпопеи был для евреев менее тягостен, нежели два предшествующих. Многие заключенные успели привыкнуть к своему положению, да и надежда на освобождение теперь уже чаще прежнего посещала тех, кто изверился было в возможном торжестве правды. Трагический конец Страхова многим из заключенных казался возмездием44, и это окрыляло их, внушало упования. Посетившая город летом 1830 г. холера заставила администрацию улучшить содержание арестованных, а случившийся тем же летом пожар уничтожил все временные тюрьмы, в том числе и здание, где помещалась следственная комиссия, незадолго до этого завершившая свою деятельность. Все арестованные были переведены в единственный сохранившийся большой двухэтажный каменный дом на углу Базарной площади и Петербургской улицы; одиночный режим там за отсутствием места поневоле должен был быть заменен обыкновенным. И в общих камерах за общим столом сходились иногда целые семейства (Цетлиных, Рудняковых, Нахимовских и др.). Люди теперь вместе коротали дни заключения.
Синагоги, однако, оставались по-прежнему запечатанными, а свитки Торы продолжали лежать в полиции под присмотром городовых. Разорение продолжалось, нищета росла. Неизвестность томила всех. Это теперь было тем труднее переносить, что все ясно чувствовали: конец близок, для полного торжества правды необходим один только шаг.
И шаг этот, как известно, был сделан. Его сделал тот, на кого велижские евреи с самого начала возлагали единственную свою надежду.
То был велижский помещик, адмирал (впоследствии граф) Николай Семенович Мордвинов.
Имение Мордвинова Селезни лежало в 20 верстах от Велижа и первоначально принадлежало иезуитскому ордену, но было отнято Екатериной II и подарено вместе с двумя тысячами душ отцу Николая Семеновича Семену Ивановичу Мордвинову. Огромный барский дворец в Селезнях большей частью пустовал, потому что сам Николай Семенович свою морскую службу проходил на юге России под началом Потемкина. К концу царствования Екатерины Мордвинов, вследствие разлада с Потемкиным, оставил службу и последнее десятилетие XVIII века почти безвыездно провел вместе с семейством в Селезнях, в близком соприкосновении с велижскими евреями.
В начале царствования Александра I он снова переселился в Петербург и до самой кончины своей (Мордвинов умер в 1845-м, 91 года от роду) играл там выдающуюся роль.
Просвещенный гуманист, англичанин по воспитанию, выдающейся финансист, последователь Адама Смита, ученик и поклонник Бентама, друг и вдохновитель Сперанского, покровитель Рылеева45, убежденный противник смертной казни, президент вольно-экономического общества, проповедник веротерпимости и всеобщего уравнения в правах, он был на несколько голов выше большинства своих современников.
С 1821 г. он занимал важный пост председателя департамента гражданских и духовных дел Государственного Совета, участвовал во всех наиболее крупных судебных процессах и не упускал случая смягчить участь осужденных.
Велижским процессом он заинтересовался с самого его возникновения – как одной из наиболее ярких форм проявления той нетерпимости, с которой он боролся всю свою жизнь.
Живший в Петербурге зять Мирки Аронсон Гирш Броудо часто навещал его в его большом доме на Театральной площади, доставляя туда материалы и сведения о ходе следствия и судьбах арестованных. Восьмидесятилетний Мордвинов не раз пытался так или иначе обуздать рвение следователей и ввести действия комиссии в рамки закона. Но попытки его разбивались об упорство Страхова, поддерживаемого, с одной стороны, генералом Шкуриным, а с другой – генерал-губернатором Хованским.
Непосредственное вмешательство его сделалось возможным только с переходом (в порядке судопроизводства) всего следственного материала в департамент духовных дел, председателем коего он состоял.
В мае 1834 г. дело поступило в департамент, а в ноябре того же года перекочевало в общее собрание Государственного Совета вместе с подробной запиской Мордвинова и по существу обвинения, и по поводу ценности добытых комиссией Страхова материалов. Надо ли удивляться, что его глубокого анализа, его умных аргументов, его едкой иронии с лихвой хватило для того, чтобы сооруженное на лжи и человеческих страданиях здание с грохотом рухнуло и развалилось на куски?
28 января 1835 г. (18 швата) прибывший из Петербурга через Псков и Торопец фельдъегерь подъехал к дому Орлика Тевелева на углу Базарной площади и Смоленской улицы, где в верхнем этаж помещалась гостиница, и занял номер. Через час во всем городе стало известно, что чиновник привез с собою приказ открыть синагоги и вернуть евреям отнятые у них священные свитки. Огромные толпы народа стали стекаться к дому Тевелева, запрудив вскоре всю улицу и прилегающую к ней часть базара. Представители евреев – духовный раввин реб Беньямин-Гирш, бывший ратман Беньямин Иоф, кагальный резник Берка Зарх и другие – вошли внутрь, и через нисколько минут к Большой синагоге потянулась целая процессия.
Уже смеркалось, и многие, захватив свечи, зажгли их и понесли перед собой. Процессия, по рассказам очевидцев, торжественно двигалась по Духовской улице. Впереди шла бабушка Цирля, маленькая старушка в толстой ватной кофте, густо пропитанной дегтем, которым она торговала на базаре. Притоптывая и хлопая в ладоши, она кричала (почему-то по-русски):
– Наш Б-г! Наша школа! Наш Б-г! Наша школа!
Зима была очень снежная, и, дойдя до синагоги, процессия должна была остановиться. Впереди высились огромные сугробы.
Тем не менее путь тотчас расчистили руками. Железная цепь прорвалась под дружным напором толпы, засов упал, и тяжелая дубовая дверь, скрипя ржавыми промерзшими петлями, отворилась перед благоговейно замершими людьми.
Внутри было пусто и холодно. Разбросанные полуистлевшие книги, сдвинутые в беспорядке скамьи, сорванный со стены рукомойник, наполовину сползшая со стола тяжелая шитая скатерть, раскрытый настежь пустой кивот… Все имело точно такой же вид, как и девять лет назад – в тот день, когда храм был неожиданно запечатан46.
В кивоте тотчас замерцала поставленная кем-то свеча, и два глухих удара об стол пронеслись под сводами храма.
Слепой кантор Рувим снова стоял на амвоне: белые клубы пара вырывались у него изо рта, и над головами собравшихся прозвучали древние как мир слова:
– Борху эс а-Шем а-мворох!
Благословите Г-спода! Он же благословен!..47
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
E-mail: lechaim@lechaim.ru