[<< Содержание] ЛЕХАИМ НОЯБРЬ 2003 ХЕШВАН 5764 – 11(139)
Поэзия и правда
Израиль Петров
Глава с классиком
Вместо того чтобы ободрить бедного автора, мои доброжелатели упрямо допытывались: а как всё было на самом деле?
Гёте
В середине прошлого века, студентом Литинститута, сочинил я нечто о Гражданской войне. С комиссаром-прибалтом по фамилии Нечипляйтис. С молоденьким белым офицером, которые назывались тогда «химическими».
Потому что звездочки на погонах рисовали химическим (несмываемым) карандашом: настоящих, фабричного производства уже не было... Вот такой «химический» подпоручик попадал в плен, и юная санитарка Маша (Варя?) пыталась спасти его от расстрела.

Комиссар – героический фанатик и не жилец. Анархист или эсер, ставший большевиком. С боевой каторжной биографией. С тюремной чахоткой, как у Махно. И сердобольная санитарка выхаживала его.
Намечался, стало быть, «треугольник», перенесенный мною отчасти из жизни. В Нечипляйтиса преобразил я (от противного) прибалта-сокурсника, поскольку прототип (сокурсник) поражал меня физическим и духовным здоровьем, донимая веселыми анекдотами. Из эпохи той же Гражданской войны:
– Если, – спрашивает, – за столом – шесть комиссаров, что под столом? – Пауза. Национальное лицо трехцветно сияет, как Андреевский флаг: кровь с молоком плюс синий горящий взор. – Под столом, – хохочет, – двенадцать колен Израилевых!
Ну и сделал его комиссаром, присобачив фамилию с отрицательною частицей.
Сердобольная Маша-Варя – опять-таки наша студентка, ни разу не глянувшая в мою сторону, и прототип-сокурсник запросто оприходовал девушку..
А кто, извините, поручик? Неужто я?
Зачисленный невзначай после двадцатого съезда из-за начальственной очумелости. Мальчик, легко откликавшийся на псевдоним...
Придумал-то сам, но толстая секретарша Асмик (что устроила Гроссману армянские переводы), она, по собственной инициативе, вписала его (псевдоним) в официальную ведомость. Так что не жалуюсь на женское невнимание. И сердобольная Маша-Варя – нынче американская бабушка – не позабыла меня:
– Да-да, – говорит, – есть такой еврейский парень...
Вероятно, в юности, в Лит-институте, мечтал я, как всякий инородец (по неосознанному инстинкту), жениться на России. И с верною Машей-Варей улизнуть черт-те куда, через какую-нибудь полуприкрытую полулегальную щелочку, пусть в кровь ободраться и шкура – клочьями. Никакая иная Родина, опричь Маши с Варей да русого светлоглазого потомства, мне вроде бы ни к чему.
И вдруг повстречал реального человека с фамилией Нечипляйтис.
Нас лечили в КЦ – кардио-центре. Его – безвозмездно, на средства регионального (Брянского или Смоленского?) бюджета, меня – на деньги заокеанской дочери, что разом с мамашей и щедрым американским отчимом процветает в штате Калифорния.
Был проект разобраться со мною там, в долине компьютеров и программистов, да бывшая Маша-Варя заартачилась. Я (то бишь – она) не Сизиф, чтобы таскать лежачие камни. С твоею (то бишь – моею) упертостью проще переселиться на тот свет, нежели в Новый. Вдобавок у вас (то бишь – у нас) медицинские услуги вчетверо, если не впятеро, дешевле.
Нечипляйтис тоже попал в КЦ (больничная терминология) благодаря дочери. Вернее – падчерице... Но как вообще очутился в Брянском или Смоленском регионе?
Происхождением – ясное дело – прибалт. Сельчанин. Из неимущей семьи. Где отец-батрак приветствовал советскую власть.
А на следующий год – 22 июня... Через два дня сдали Вильнюс, через неделю – Ригу, через два месяца – Таллин. Отец тем не менее успел записаться добровольцем (не то явочным порядком примкнул к красноармейцам?) и вернулся осенью без ноги.
Насчет красноармейцев не совсем точно. Отец участвовал в обороне Таллина бок о бок с моряками, с морскою пехотой и заразил сынишку флотскими грезами: кортик, тельняшка, бескозырка...
Прибалтийское чадо стало офицером-подводником.
Нечипляйтис служил на Севере. Женился в Мурманске (ударьте на «а»). Там же, на казенной квартире, внеурочно придя из похода, застукал жену. Любовник развлекал ее прибалтийскими анекдотами, удваивая, учетверяя согласные.
Потоптавшись на кухне, подводник канул. Уволился с флота, развелся с женой. И осел во глубине России, в Брянском, Калужском, Орловском, Смоленском регионе... Трудился на инженерной должности. Отыскал славную одинокую женщину с малышкой. Зарегистрировались. Малышку удочерил.
Девочка Маша (Варя?) – тихая и покорная. А в четырнадцать лет сказала Нечипляйтису: «Вы не отец мне». Оставила школу, поступила в мед-училище, ушла в общежитие. Объяснила матери:
– Я вам мешаю...
Кончила с «красным дипломом», с правом внеконкурсного зачисления, но документы в медицинский не подала. Ни с кем не советуясь, подрядилась в Чечню.
– Там в день, – говорит, – больше платят, чем здесь за месяц!
– Да зачем тебе деньги? – мать спрашивает.
А Варя-Маша:
– Вам помогу... Квартиру куплю...
– Дурочка, – сказал Нечипляйтис, – на войне убивают.
А Варя-Маша:
– Так уж прямо... – И засмеялась.
Извещение (похоронную) принесли из военкомата раньше ликующей телеграммы: «боевые» получила, ждите!..
Нечипляйтис свалился с сердечным приступом. На санитарном вертолете – за государственный счет – доставлен в КЦ. Мы лежим рядом, в одной палате, и готовимся к операциям.
Диббук и писатель
Глава с примечанием
Пришел к писателю черт.
Писатель был никакой, прозябающий. Обитал в поднебесных этажах, на птичьих правах, в опасной близости от кухни, шумы и запахи которой нередко проникали к нему в гнездовье, не говоря уже о творчестве.
За эту последнюю, гастрономическую в сущности, слабость любезные редакторы единодушно отвергали его произведения, а потому, едва учуяв запах пареной заморской тухлятины, он подскочил к дверям, щелкнул замком и, раздосадованный, соответствующим образом помянул черта.
И черт не замедлил явиться.
Между прочим, без всяких намеков на крылья. Серая промасленная куртка, пестрая безрукавка, лощеные лосины типа «облипенц». И все-таки это был черт. Ибо угадывал мысли.
– У тебя, блин, замок французский? – спросил черт.
– Нет, английский.
– Ну, а я черт местный. – И улыбнулся, поигрывая блестящей длинной отмычкой. – Мефистофель я. По душу твою пришел.
– Не валяйте дурака! – строго и на «вы» сказал писатель. – Не бывает никаких чертей!
– А у Гоголя? – обиженно выкрикнул черт. – У Шекспира, у Зингера?
– То другое: там вы средство... художественный прием...
– Так ведь и я – средство! Я, друг, такой художественный прием – все желания исполняю... «Фауст» Гёте читал?

Была какая-то особая трогательность, когда очень певуче, по-южному черт выговаривал: Хвауст... Мехвистохвель... И писатель подобрел к черту. Подумал о сделке, которую предлагали: продать душу – исполнить желание... Первое, что пришло в голову, – ее невозможность. Ну нет никакой души! А он, чертушка, и не знает...
Писатель сказал: вот если бы черт пострадал на пожаре, понадобилась бы кожа для пересадки... или почка для трансплантации... вообще что-нибудь существенное, осязательное...
Черт не дал ему говорить, – достал из кармана свежий, вчетверо сложенный газетный листок.
– А-а, «Родная словесность»! – обрадовался писатель. – Ну-ка, ну-ка...
Указательным пальцем черт уперся в статью. Палец прямой, жесткий, с широкими, будто резиновыми, заусенцами... Статья называлась: «Творить с душой!»
– Ну, – сказал черт, – ты-то с душой пишешь? – И смотрел голубыми, неожиданными, нечеловечески местными глазами.
И писатель решился. Ладно, он отдаст черту душу – шут с ней! – но взамен...
Глаза у черта потускнели, и он сказал неуверенно:
– Понимаешь, блин, я – ничего, все законно... только почитать надо... ну, произведения твои...
И когда писатель положил перед чертом папку, по комнате расплылась розоватая сладкая пенка, напоминающая чем-то розовые мечты юности. А потом в малиновом мутном сиропе проступили очертания девушки, очень беленькой и очень веселой. С такими же, как у черта, местными небесно-голубыми глазами.
Девушка укоризненно сказала:
– Ну вот, «слепой» экземпляр. Дискету, небось, в «Тот журнал» отдали? А нам и dirty сойдет... грязный ксерокс, да?
Обиды в голосе не было – девушка вежливо отмечала нарушение. Ей-то – один черт! – «Тот журнал», «Другой вестник»... Облизывала багровый сигарообразный фломастер, с веселым хрустом ставила вопросительно-восклицательные знаки, а минутами прямо-таки прыскала со смеху:
– Ух, чертовщина! Ах, нечистая сила!
Но перевернув последнюю страницу, внезапно нахмурилась. Подперла рукой подбородок, закурила, подпалив, как сигару, багровый фломастер. Дым мешался с розовым сиропом, теснил его, поглощал...
– Ну, почему вы, – дымила девушка, – такой бука? Такой еще, блин, молодой – и такой... кха-кха-кха... бука? – И долго кхакала натужливо и сердито.
Писатель не сразу сообразил, что она смеется.
– Ведь наш читатель... кха-кха-кха... он в лучшем случае умеет читать. Дайте нам черного хлеба. Желательно с маслом. Вы же писатель, кха-кха, сочинитель...
– Нет! – взъярился писатель. – Нет, нет, нет!
– Беда с вами! – И девушка погрузилась в багровый дым. – Вас же предупреждали. Вы еще под фамилией Гоголь представились. Помните?.. Фаддей Венедиктович Б виртуально остерегал: «Зачем показывать эти рубища, эти грязные лохмотья, зачем рисовать неприглядную картину заднего двора безо всякой видимой цели?»... Ну, блин, зачем?.. Кха-кха-кха!
И вскочивши на стол, пустилась в отчаянную местную пляску, убивая заветную рукопись твердыми босыми пятками. Листочки постанывали, покряхтывали, извивались...
– Го-галь! – вопила девушка. – Го-галь! – И высунула язык – багровый, точно фломастер.
Сироп развеялся. Сверкали лосины «облипенц».
Черт был на прежнем месте, подле стола. Прозрачные голубые глаза светились, как небо за багровыми тучами.
Писатель молчал.
– Давай, блин, по второму разу? – И закхакал, как девушка.
– Я эти заведения двадцать два раза обошел! – зло отрубил писатель. – Что же мне, объявление повесить: «Меняю несуразные мозги»?
Черт ударил писателя по коленке и подпрыгнул на стуле.
– А что? Это сколько угодно! От души! У нас там – Обменное управление... ну, шарики на ролики... Булгарин Фаддей Венедиктыч заведует...
И в медлительном воздушном парении, как бумажный ковер-самолет, заструился перед писателем глянцевый текст:
Я, Писатель, именуемый в дальнейшем Человек, и я, Диббук, именуемый в дальнейшем Нечистая Сила, заключили между собой нижеследующее Трудовое соглашение...
Суть Трудового соглашения коротко состояла в том, что отныне душа писателя поступает в собственность черта, вследствие чего сам писатель восстанавливается в прежней кормящей профессии...
– Никогда не буду писать?
– Все, друг, отрезано!
Черт высыпал на «Родную словесность» две багровые звездочки, велел принять после ужина и запить водой. Можно, конечно, из крана, да минералка надежнее...
Было самое время разбежаться. Однако писатель что-то замешкался, и прощание не состоялось, – бухнула кухонная дверь, загремел по коридору голос соседа:
– Опять эти прелые куриные лапки! Как вам не совестно, Сарра Абрамовна? Весь дом провоняли, черт вас дери!
Черт радостно взвизгнул и ринулся головой вперед за окошко. Мелькнули лощеные лосины.
– Извини, друг, зовут! А ты действуй по уговору: две таблетки, вода. – И растворился в багровом закате.
«Ну да, – подумал писатель, – они же не через дверь...»
В комнате душно и тяжело пахло заморской тухлятиной.
Примечания:
Диббук в еврейской народной традиции – злой бес. Вселяется в человека, овладевает его душой и причиняет душевный недуг.
Булгарин Фаддей Венедиктович (1789 – 1859) – местный автор с дурной репутацией.
Глава без примечаний
Будильник прозвенел над самым ухом, и через минуту, в студенческой расписной фуфаечке (I don't worry be jewish! – Спокойствие, я еврей!), Иван Израилевич выбежал на общую кухню с ковшиком из цветного металла.
Все конфорки были заняты.
– Сарра Абрамовна, не плеснете кипяточку?
Чайник Сарры Абрамовны давно кипел, сама она резала вчерашние лапки, шлепая на шипящую сковородку.
– Наливайте, Иван Израилевич!
Он поблагодарил, и, наскоро, холостяцки завтракая, взглянул на газету, служившую скатертью. Газета свежая, вчера только купленная «Родная словесность», – в скатерти попала случайно.
Иван Израилевич отругал себя за оплошность, смахнул хлебные крошки и прочел:
– Творить с душой!
И едва произнес это, что-то кольнуло его, словно шилом притронулись к сердцу. Он обозлился на родную словесность, такую занозистую... Писали бы просто: работать добросовестно.
Боль не уходила. Торопясь на троллейбус, Иван Израилевич высоко задирал ноги, будто старался вышибить, будто доказывал: а я – здоровый... здоровый... вот бегу!
День был солнечный. По троллейбусным проводам бежали наравне с ним две золотые искры. Видел их сотни раз и ничего не испытывал. А сегодня болело.
В троллейбусе тьма народу – «час пик». Ивана Израилевича так сдавили, – всю душу вытряхнули. Боль утихла.
Сперва он обрадовался и, прислушиваясь к себе, не смел шевелиться. Потом затекли ноги. Топтался, дергался, двигал головой, – словом, вел себя как человек, которому жмет воротник рубахи. И тут в глаза ему бросились вздутые давленые пупырышки на потолке. Другие люди тоже заметили их. Кто говорил о жаре, кто – о красителях...
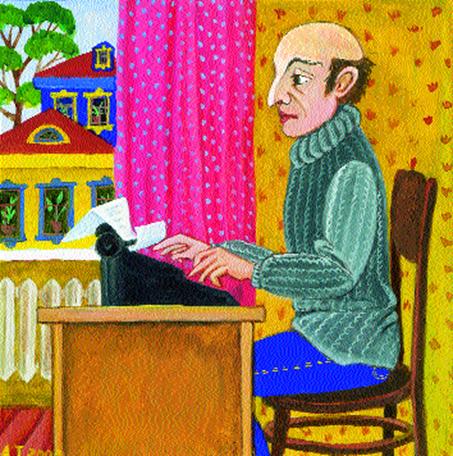
По роду своих занятий Иван Израилевич соприкасался с наукой (сверхштатный консультант ТОО «Ядохимикат»), в красителях толк знал, а потому всегда и с большим удовольствием поддерживал беседу. Но в это утро все слова шли мимо него. Стоял, уставившись в потолок, где – среди яркого, желтого – набухали и лопались белые пузырьки... Не смел отвести взгляд и, сдавленный болтающими пассажирами, чувствовал резь.
На третьей остановке освободилось место. Иван Израилевич плюхнулся в продавленное клеенчатое гнездо, надеясь, что теперь, когда не толкаются, хворь уймется. Мерно и глубоко дышал, и боль – чудилось, – подсохнув и зачерствев, отваливается кусками, как корка...
Впереди, сшибаясь плечами, раскачивались две спины: старикан с восточной наружностью и парень в бейсболке. Парень показывал красную корочку, а старикан:
– Какой регистрация?.. Паспорт йок... Дач-гараж строим...
– Да это лицензия! – посмеивалась бейсболка. – Агентство недвижимости «Вечный покой»... По случаю юбилея Пушкина обеспечиваем безбедную старость...
Но старикан упрямо отодвигался.
– Зачем Пушкин? Какой регистрация? – И устремился к выходу. – Дач-гараж строим!.. Паспорт йок!
Бейсболка засмеялась, а у Ивана Израилевича заныло в животе. Его так сильно скрутило, что он невольно спросил у соседа: аппендицит – с какой стороны?
– Вроде бы слева, – сказал сосед. – Теще недавно вырезали... да, слева.
– Справа, справа аппендицит! – вмешался грубый досадливый голос. – В правой подвоздушной области, если по-медицински уточнять. – Голос приблизился. – Вы уж мне верьте: всю жизнь его боялся – мерзавца этого, слепого этого черта!.. Косточки лишней не заглотал, кожуру с колбасы во-во как чистил, корку сырную на сантиметр отстругивал – жена ругалась... И что ты думаешь? Перитонит!
По троллейбусу покатился смех, проник в кабину водителя, и он последним хохотнул в микрофон, объявляя остановку.
Смеялся и Иван Израилевич, но смеялся в полрта – и не так, как смеялись все... А боль окончательно доконала его, и он подумал: наверное, аппендицит.
Когда пришел в отдел – небольшую комнату, туго набитую сайтами и байтами, глуховатая Валентина Самойловна ахнула:
– Иван Израилевич, на вас лица нет!.. Занедужили?
– Сам не пойму... то тяжесть, то пустота наоборот...
– А вы – клизму, клизму! – заверещала Валентина Самойловна. – Раз, и брысь!
Иван Израилевич работал до вечера. Кормящее ремесло, которым был занят, сводилось вот к чему. Прошлой осенью усовершенствовали автозахват для погрузки битума. Опытный экземпляр испытали в приволжском ОАО и вернули Ивану Израилевичу на доработку. Теперь, учитывая все ценное, он доводил проект.
Боль отступила. Попросту подчинилась работе. Иван Израилевич знал это и боялся уходить. Попросил Валентину Самойловну не запирать множительную технику: я поработаю.
Глухая крикнула:
– Пожалуйста! Раз, и брысь!
Прочла длинную лекцию, как ухаживать за ветхой аппаратурой, – «да-да, она такая капризная... прямо старая дева», – и внезапно, прервавшись на полуслове, всплеснула руками:
– Иван Израилевич, какая тяжелая судьба у моей тети! Какая тяжелая... Просто раз, и брысь!
Тетя у Валентины Самойловны еще не старая – музейная художница-реставратор, незамужняя. Часто навещает племянницу, греется около семейного.
– ...Вчера сидим за телевизором, а там, знаете, помехи – все сверху вниз перекосило, – и вдруг мой Ленчик как заорет: «Мама, смотри – лицо, как у тети Фаи! Теть, ну, посмотри – прямо раз, и брысь!»... Приятно ей, Иван Израилевич? Нет, вы скажите!
И во всем теле Ивана Израилевича загудела боль. Никогда не встречал он эту некрасивую тетю и никогда, быть может, не встретит. Нет ему до нее никакого дела!.. Но болело так, будто есть дело.
Роясь в папке, обнаружил бумагу с приволжского ОАО – того самого, где испытывали автозахват. Такие хвалебные благодарности (или благодарственные хвалебны) составляют в конторе, а после разносят по установкам, собирая подписи.
Вот на подписи и глядел – разборчивые и невнятные, кривые и по-детски круглые. Долгая виляющая колонка шла сверху вниз, огибая черно-желтое дегтярное пятно…
...И увидел Иван Израилевич огромный каменный сарай – низкая крыша, цементный пол... услышал мерное шарканье... Длинной виляющей колонной шли люди, огибали темную, с желтым солнечным отблеском лужу, а некоторые расплескивали в ней свое отражение.
У каждого – картонный мешок с битумом. Кто волочил, кто прижал к животу...
И лицо за лицом... лицо за лицом... пошли перед Иваном Израилевичем грузчики – согнутые мешками, злые, прибитые к земле... шли и шли, потому что оказалось: он запомнил их всех, до единого.
И ему представился сегодняшний день: те люди, с которыми сталкивался, вещи, что кололи глаза... Утренняя искра на троллейбусных проводах вновь вспыхнула и осветила вдруг маму.
Солнце. Жара далекого года. Девочка-мама – в толпе беженцев. А навстречу – железнодорожные платформы с танками. И в танках, высовываясь из башен, – мальчишки 19 лет. Черные несуразные шлемы падают на глаза, и мальчишки кричат птичьими голосами:
– Куда вы? Не бойтесь! Вот мы им сейчас дадим!
Боль стала невыносимой. И уже ни о чем не думая, Иван Израилевич ударил по клавишам. Выскочила и врезалась буква. Ударил еще раз, потом еще.
Боль поднималась все выше – из подвоздушной области в воздушную. Вытесняла воздух. Не давала дышать. Он бил без устали. Падали черные буквы, и мальчишки в танкистских шлемах ехали умирать.
– Мама! – крикнул Иван Израилевич. – Мама, мама, мама!
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
E-mail: lechaim@lechaim.ru