 РОССИЯ – РОДИНА МАМОНТОВ
РОССИЯ – РОДИНА МАМОНТОВ
Бенедикт Сарнов
Я уже говорил, что задолго до моего личного знакомства с Ильей Григорьевичем, еще с юности, у меня было такое чувство, что я с ним связан какими-то особыми узами. Была, например, ни на чем, в сущности, не основанная уверенность, что если вдруг понадобится обратиться к нему с какой-нибудь важной просьбой (не личного, а общественного характера), то МНЕ он не откажет. Именно этим чувством был продиктован мой порыв кинуться к Эренбургу, требуя от него, чтобы он ответил на гнусную шолоховскую статейку о псевдонимах. И позже, уже в иную эпоху, сразу пришедшая в голову мысль именно к нему обратиться с просьбой подписать письмо в защиту Синявского и Даниэля.
Тут я должен сказать, что эта мысль пришла в голову не только мне. И даже мне – не первому.
Первой, сколько мне помнится, была Вика Швейцер. А ездили к Эренбургу с просьбой подписать это письмо Сарра Бабенышева и Рая Орлова. И он подписал. Правда, не сразу, а выдвинув – в ультимативной форме («иначе не подпишу») – требование, чтобы в текст письма была внесена довольно существенная оговорка: «Хоть мы и не одобряем...» Словом, что-то в этом роде.*
Этот его ультиматум дал повод многим моим друзьям покатить на него очередную бочку.
Впрочем, почти все они (за редкими исключениями) и раньше относились к Эренбургу прохладно. Некоторые прямо говорили, что недолюбливают его, и это меня не удивляло, – и даже не сильно задевало. Но отношение к нему Шурика Воронеля, с которым мы однажды заговорили на эту тему (как раз в связи с тем письмом в защиту Синявского и Даниэля), меня поразило.
* Написав все это по памяти, я все-таки решил себя проверить. Разыскал текст нашего коллективного письма (он опубликован в книге «Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля». М., 1989) и сразу нашел там ту, вписанную по настоянию Эренбурга, оговорочную фразу. Привожу ее полностью: «Хотя мы не одобряем тех средств, к которым прибегали эти писатели, публикуя свои произведения за границей, мы не можем согласиться с тем, что в их действиях присутствовал антисоветский умысел, доказательства которого были бы необходимы для столь тяжкого наказания». Фраза эта не только не противоречила общему тону письма, но и ничуть с ним не диссонировала, поскольку тон этот был вполне законопослушный. Мы смиренно просили, чтобы нам выдали осужденных «на поруки» (была тогда такая форма смягчения приговора для хулиганов и алкоголиков). Таким образом, мы не отрицали их вины, именуя ее, правда, не преступлением, а всего лишь «совершенными ими политическими просчетами и бестактностями».
***
Имя Шурика уже мелькнуло на этих страницах. Но тут настало время сказать о нем чуть подробнее.
Когда я с ним познакомился, – а это было в начале 60-х, – он произвел на меня впечатление прирожденного ученого-естественника. Он был влюблен в свое призвание физика-экспериментатора, суть которого, как он мне объяснил, состояла в том, чтобы задавать вопросы природе. И этому своему призванию он был верен. Верен настолько, что не только себе, но и коллегам, – сотрудникам, ученикам, – не позволял ни на миг изменять этому призванию ради других склонностей и увлечений, какими бы почтенными эти склонности и увлечения ни были.
Одному молодому физику, увлекшемуся самиздатом и правозащитной деятельностью, он даже сказал:
– Вы должны решить для себя, кем вы хотите быть – ученым или профессиональным революционером? Два эти рода деятельности несовместимы. Наука требует человека целиком.
Сам он, однако, этому принципу не последовал. В какой-то момент стал «профессиональным революционером». И даже начал издавать подпольный журнал «Евреи в СССР», из которого потом вырос и поныне выходящий в Иерусалиме журнал «22». (Шурик и сейчас – его главный редактор). Позже он написал несколько книг и множество статей на темы философские, исторические и даже литературоведческие.
 Но
тогда до всего этого было еще далеко. Тогда он был – повторю еще раз –
преуспевающим физиком-экспериментатором, перед которым только-только открылись
весьма заманчивые научные перспективы. Он был приглашен тогда на какую-то очень
интересную и престижную работу в Дубну и не на шутку этой работой был увлечен.
Но
тогда до всего этого было еще далеко. Тогда он был – повторю еще раз –
преуспевающим физиком-экспериментатором, перед которым только-только открылись
весьма заманчивые научные перспективы. Он был приглашен тогда на какую-то очень
интересную и престижную работу в Дубну и не на шутку этой работой был увлечен.
И тем не менее, уже тогда мне показалось, что в физике ему как-то тесно. В разговорах наших – а разговаривали мы часами и, если бы это было возможно, вели бы наши бесконечные разговоры сутками, не прерываясь даже для ночного сна, – доминировали темы сугубо гуманитарного свойства.
Это было так для меня удивительно, что однажды, не удержавшись, я сказал ему:
– Признайтесь, ведь по главным, самым тайным своим душевным склонностям вы совсем не естественник! Типичный гуманитарий: историк, философ. И как это только вас угораздило стать физиком?
Вопрос, разумеется, был риторический. И я ожидал, что Шурик в ответ только улыбнется своей милой застенчивой улыбкой. Риторический вопрос ведь потому и называется риторическим, что не требует ответа.
Но Шурик на этот мой риторический вопрос ответил. В ответ на него он рассказал мне такую историю.
В девятом классе, сколотив группу единомышленников, он стал выпускать с ними рукописный журнал. Журнал был скорее литературный, но отчасти и политический. Хотя – какая там могла быть у них политика! Ну, писали, что комсомол стал организацией не столько идейной, сколько формальной. Что нужна какая-то другая молодежная организация, в которую принимались бы только ребята, по-настоящему одушевленные великой идеей переустройства мира. Настоящие пламенные революционеры... И хотя все эти идеи в основе своей вполне укладывались в официальную идеологию, – во всяком случае, никак ей не противостояли, напротив, хотели ее оживить, влить в ее омертвелую плоть толику молодой, свежей крови, – деятельностью молодых романтиков заинтересовались в «Министерстве Любви». И всех их, разумеется, забрали.
 Было следствие, после которого их
отправили – к счастью, не в лагерь, а в детскую исправительную колонию.
Было следствие, после которого их
отправили – к счастью, не в лагерь, а в детскую исправительную колонию.
Там, само собой, тоже было не сладко. Но на эту тему Шурик в своем рассказе особенно распространяться не стал. Он только сказал, что пробыл в той колонии сравнительно недолго: чуть меньше года. А потом вернулся в свой девятый класс.
А когда он учился уже не в девятом, а в последнем, десятом классе, его маму неожиданно вызвали в «Министерство Любви». И там с нею провел беседу очень милый и, как ни странно, на редкость доброжелательный полковник. Он спросил, как поживает ее сын, как он учится, какие у него интересы, какие планы после окончания школы: куда намерен он поступать.
Мама Шурика ответила, что настроение у сына хорошее. Все свои ошибки и заблуждения он полностью осознал. Учится хорошо. Из всех школьных предметов больше всего любит историю и поступать собирается на истфак.
– Так вот, – сказал ей на это полковник, – мой вам совет: употребите все ваше влияние и во что бы то ни стало убедите сына поступать не на истфак, а на какой-нибудь естественный факультет. Пусть займется химией. Или физикой. Только (ни в коем случае!) не историей, не философией. И – упаси, Г-споди! – не литературой. А иначе он обязательно к нам вернется. Вы меня поняли?
Мама Шурика очень хорошо его поняла. И
употребила все свое влияние. И, что самое удивительное, – совету полковника
Шурик внял. При его характере он вполне мог и  заартачиться.
Но тут, видно, сыграл свою роль опыт, полученный в исправительной колонии:
попасть снова в учреждение, подведомственное «Министерству Любви», ему совсем не
хотелось.
заартачиться.
Но тут, видно, сыграл свою роль опыт, полученный в исправительной колонии:
попасть снова в учреждение, подведомственное «Министерству Любви», ему совсем не
хотелось.
Так он стал физиком. Что, впрочем, не уберегло его от новых встреч с сотрудниками этого славного министерства.
Но тут уж дело было не в профессии, а в характере.
***
Спасая своего друга Даниэля (с Юликом они были связаны давней и тесной дружбой, именно он меня с ним и познакомил), Шурик готов был обратиться за помощью не то что к Эренбургу, но и к самому дьяволу. Но об Эренбурге при этом он отзывался крайне враждебно. Я бы даже сказал, с какой-то неистовой злобой.
Когда я попытался доискаться до причин этой его повышенной злобности, он угрюмо сказал:
– Никогда не забуду, как я плакал, читая одну его статью.
Я не понял. Все тогдашние статьи Эренбурга я тоже, конечно, читал. Но мне было решительно невдомек, над чем там можно было плакать.
– Я плакал, – объяснил Шурик, – потому что все, что я думал и чувствовал тогда, было в противоречии с тем, что думали и чувствовали все мои друзья. И учителя. И родители. Ну, на друзей и учителей, положим, мне было наплевать. Родителям подростки, вы знаете, тоже не больно стремятся верить. Но Эренбург!.. Я читал его статью и в отчаянии думал: «Что же я за урод такой! Вот даже Эренбург, и тот думает не так, как я!» Ему-то я верил, не мог не верить!.. И вот этих моих детских слез я вашему Эренбургу никогда не прощу!
Я не спросил тогда у Шурика, какая статья Эренбурга вызвала у него эти яростные слезы. Не спросил, потому что такую реакцию могла вызвать едва ли не любая его статья. Ведь почти в каждой он защищал официальную советскую идеологию. И защищал не казенным, суконным советским языком, а по-своему, по-эренбурговски: темпераментно, даже страстно, а главное, – очень лично. Приводя доводы и соображения, которые заражали своей неопровержимой убедительностью.
Помню, например, его статью, появившуюся в самый пик борьбы за российские приоритеты в науке, – когда «французскую» булочку переименовали в «московскую» и все мы повторяли только что родившуюся остроту: «Россия – родина слонов».
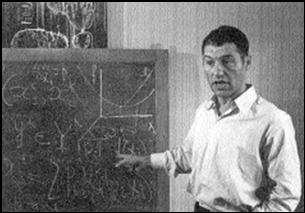 Эренбург, включившись в эту кампанию
(статья, кажется, называлась «Некто Бидо»), не стал упирать на то, что Россия –
родина таблицы Менделеева, радиотелеграфа (Попов, а не Маркони), паровоза
(Ползунов, а не Джефферсон)... Не стал особенно настаивать и на том, что
Ломоносов «одновременно, и даже несколько раньше», чем Лавуазье, открыл закон
сохранения материи.
Эренбург, включившись в эту кампанию
(статья, кажется, называлась «Некто Бидо»), не стал упирать на то, что Россия –
родина таблицы Менделеева, радиотелеграфа (Попов, а не Маркони), паровоза
(Ползунов, а не Джефферсон)... Не стал особенно настаивать и на том, что
Ломоносов «одновременно, и даже несколько раньше», чем Лавуазье, открыл закон
сохранения материи.
Небрежно отмахнувшись от всех этих навязших в зубах примеров, он сказал, что во всяком случае уж никто не посмеет оспорить приоритет России в другом, в главном: это мы, наш народ, русские рабочие и крестьяне в октябре 1917 года первыми указали человечеству путь к новой жизни, к новому, справедливому мироустройству.
Годы спустя такой нетривиальный и даже изысканный способ служения официальным государственным доктринам блистательно высмеял мой друг Аркадий Белинков в своей книге «Юрий Олеша. Сдача и гибель советского интеллигента»:
«Один некогда замечательный писатель (будем условно называть его “учитель танцев Раздватрис в новых условиях”) великий и горький грешник русской литературы, каждая новая книга которого зачеркивала каждую старую его книгу, улыбающийся человек, повисший между ложью и полуправдой, понимающе покачивал головой...
Пили чай. Обменивались жизненным и литературным опытом. Шутили...
– В годы культа, – рассказывал улыбающийся человек, – бывали случаи, когда в издательстве заставляли писать, что Россия – родина слонов. Ну, вы же понимаете, – это не дискуссионно. Такие вещи не обсуждаются. Одиссей не выбирал, приставать или не приставать к острову Кирки. Многие писали: “Россия – родина слонов”. А я почти без подготовки возмутился. Я сломал стул... Я заявил: “Вы ничего не понимаете. Россия – родина мамонтов!”»
Это он – не про Эренбурга. В этом улыбающемся человеке, повисшем между ложью и полуправдой, которого Белинков называет великим и горьким грешником русской литературы, легко угадывается Виктор Борисович Шкловский.
Но честь изобретения формулы «Россия – родина мамонтов» в то время, когда предписывалось утверждать, что Россия – родина слонов, по праву принадлежит Эренбургу. Во всяком случае, прибегал он к этой формуле гораздо чаще, чем Шкловский.
Перебирая в памяти те, давние его статьи и вспоминая тогдашние свои о них впечатления, я заглянул в одну эренбурговскую книжечку. Его публицистические статьи печатались тогда не только в газетах, но и собирались в такие вот небольшие сборники и распространялись по стране и по миру, как выразился однажды Маяковский, «летучим дождем брошюр». Собирая и храня все ранние издания Эренбурга, таких я никогда не хранил. Не сохранил и эту: мне подарил ее собирающий и хранящий все, что имеет хоть какое-то отношение к Эренбургу, Борис Фрезинский. Называется она «Надежда мира». Дата выхода в свет – 1950 год.
Раскрыв ее наугад, я сразу наткнулся на еще одну (помимо той, которую только что вспоминал) изящную разработку мотива «Россия – родина мамонтов»:
«Меня пригласили в Цюрихе в гости... В
гостиной оказалось человек двадцать, среди них мэр города. Один из гостей,
одетый как сноб, скучающим голосом мне сказал: “Вы утверждаете, что наши газеты
пишут неправду о вашей стране? Не думаю... Я, например, читал статью о том, что
у вас поезда часто опаздывают. У нас этого не бывает. Если у вас поезда тоже не
опаздывают, почему бы вам не написать об этом в цюрихской  газете?” Я ответил: “Проблемы железнодорожного
транспорта не моя тема. Но я хочу вам сказать, что один русский поезд пришел
вовремя – поезд в Берлин, только благодаря этому вы остались живы и
невредимы”».
газете?” Я ответил: “Проблемы железнодорожного
транспорта не моя тема. Но я хочу вам сказать, что один русский поезд пришел
вовремя – поезд в Берлин, только благодаря этому вы остались живы и
невредимы”».
Эту статью Эренбурга я, конечно, читал и тогда, в 1950 году. Может быть, даже дважды: сперва в газете, а потом в книжке. Из множества его статей, которые он публиковал в то время, я, наверное, не пропустил ни одной. Но сейчас, перечитывая ее, я так и не смог вспомнить, как реагировал на этот пассаж тогда, в то время.
Хотя – подумаешь тоже, бином Ньютона! Восторгался, наверное, ловкостью его ответа. Ответ ведь и в самом деле был ловкий. А кроме того, это ведь была чистая правда: не разгроми мы Гитлера, не приди наш поезд (тот самый наш «бронепоезд», который стоял у нас «на запасном пути») вовремя в Берлин, этому швейцарскому снобу и в самом деле пришлось бы не сладко.
Что говорить, тот факт, что Россия – родина мамонтов, оспаривать было трудно: останки этого вымершего млекопитающего действительно не раз находили на севере Сибири. Нет, этот эренбурговский пассаж меня тогда, наверное, не возмутил. Да и сейчас, по правде говоря, тоже не больно возмущает. Но сама книжечка (а я перечитал ее всю, от корки до корки) теперь, полвека спустя, произвела на меня впечатление жуткое.
Больше чем наполовину она состояла из тогдашних эренбурговских путевых заметок: «Бельгия», «Швейцария», «Франция», «Германия», «Чехословакия», «Лондонские впечатления»...
Картина, открывшаяся ему во время его путешествия по этим западным странам, была ужасна.
Вот – Бельгия:
«... За внешним благополучием скрыто немало горя. Намюр – красивый город, с древней крепостью, с широкой рекой, и плакаты зазывают туда туристов. Там много старинных улиц возле реки. Для туристов они живописны, для жителей страшны, дома в городе, который гордится своей красотой, числится своеобразным курортом с игорным домом и прочими приманками, по всей справедливости должны быть названы трущобами. Крыши протекают, в каморках темно, хлюпает вода... Домовладельцы сдают трущобы беднякам – безработным, инвалидам, людям, потерявшим силы в немецких лагерях. Трущоба стоит в месяц двести пятьдесят – триста франков. Турист, любуясь живописностью темных улиц, не знает, сколько слез стоит вся эта экзотика».
А вот – «благополучнейшая» Швейцария. Сперва мы узнаем, какой ценой досталось швейцарцам это их благополучие. Но тут же выясняется, что и само благополучие тоже мнимое:
«После конца войны соседние страны подсчитывали убитых, подводили итоги разрушений. Другой статистикой была занята Швейцария: она считала барыши...
Однако за последнее время легкая меланхолия овладевает швейцарцами. Слов нет, жира много и он не сразу спадет, но первые симптомы надвигающегося кризиса приводят швейцарцев в скверное настроение. Эти симптомы связаны с “планом Маршалла”, к которому Швейцария примкнула не потому, что она нуждалась в американской помощи, а потому, что боялась разгневать американского дядюшку. Торговый оборот за истекший год несколько сократился. Доходы железных дорог резко понизились. Количество банкротств возросло на двадцать процентов. Появились безработные, их теперь несколько тысяч».
Та же безотрадная картина открылась его глазам и в любимой Франции:
«Я уже говорил о том фантастическом хаосе, который принес Западной Европе “план Маршалла”...
Франция производила сгущенное молоко; теперь она должна ввозить молоко только из Америки на три миллиарда франков в год. Алжирские крестьяне не знают, что им делать с ячменем, а Франция покупает американский ячмень. Согласно “плану Маршалла” в 1949 году была уничтожена авиационная промышленность Франции; закрыли четырнадцать заводов, выбросили на улицу шестьдесят тысяч рабочих».
Тот же кошмар в Лондоне:
«... Теперь в Лондоне имеется много магазинов с товарами, которые продаются только иностранным туристам (их доставляют на пароход или на самолет). Англичане смотрят на хорошие материи, шерстяные изделия, другие вещи, изготовленные в Англии, которые они не имеют права приобрести: все это предназначено для американцев...
Почему терпят англичане лишения? Почему они работают, зная, что изготовленные ими вещи уйдут за океан? Почему ютятся в бараках?..»
Картина послевоенной Европы, нарисованная Эренбургом в этих его путевых заметках, осталась бы такой же мрачной и беспросветной, если бы не посчастливилось ему, двигаясь с востока на запад, заглянуть в социалистическую Чехословакию. Тут его взору открылись совсем иные реалии и, соответственно, весь тон и стиль его описаний становится совершенно иным:
«Я был в Хустке; в прекрасном поместии помещается школа для рабочей молодежи. Скоро эти юноши и девушки станут студентами педагогического института. Сегодня они учатся, завтра будут учить... Я долго беседовал с этой молодежью. Какие они веселые, как доверяют жизни! Такого смеха, таких песен, таких радостных слов я не слышал в сытой, богатой, полтораста лет не воевавшей Швейцарии...
Я побывал в сельском кооперативе – в селе Житавце возле Нитры. Труд стал легче, крестьяне берут книги в библиотеке, ребята учатся в средней школе... Кто знает, не станет ли большим человеком этот крестьянин из Житавце? Не прогремит ли на всю страну имя белобрысого мальчугана, который старательно выводит каракули?..
Я снова побывал в Турчанском Светом Мартыне и не узнал этого города. Он вырос; там, где были огороды, теперь большие дома, недавно пустили огромный сталелитейный завод... Рабочие читают стихи Маяковского...»
В общем, картина, нарисованная Эренбургом по его живым впечатлениям о поездке по странам послевоенной Европы, открывается перед нами совершенно такая же, каким – годы спустя – изобразил своим легким ироническим пером этот советский пропагандистский шаблон Владимир Войнович:
«В столице нашей родины был день. Светлый день десятой пятилетки. Наши люди в порыве трудового энтузиазма возводили новые здания, управляли различными механизмами, варили сталь и давали стране угля.
В то же самое время в городе Бостоне была, естественно, ночь. Под покровом темноты орудовали шайки гангстеров, пылали факелы ку-клукс-клана, дымилась марихуана, неудержимо падал курс доллара, потерявшие надежду безработные загодя выстраивались к бирже труда в такие длинные очереди, какие у нас бывают только за коврами и колбасой».
Войнович, конечно, этот свой ернический, глумливый пассаж сочинил уже в совсем иную историческую эпоху. С годами, как известно, все мы становимся и зорче, и мудрее. Но все-таки, перечитывая сейчас эти эренбурговские статьи, я просто диву даюсь: как мог я тогда глотать всю эту пропагандистскую чушь, не то чтобы не замечая пронизывающей ее лжи и фальши (замечал, конечно, – не мог не замечать!), но все-таки глотал ее. И даже тянулся к ней, в каждом номере свежей газеты стараясь найти – и радовался, когда находил! – очередную статью Эренбурга.
Отчасти это объяснялось тем, что – по сравнению с другими статьями тех же газет – в эренбурговских все-таки всегда была какая-то крупица реальности. Даже утверждая официальную ложь, он был правдив в деталях, в подробностях. Кроме того, я всегда рассчитывал узнать из каждой очередной его статьи чуть больше, чем из всех других, поскольку он всегда старался (или ему разрешалось) сказать больше, чем позволяли себе другие.
Конечно, читая эти его путевые очерки, я поневоле заражался (отравлялся) их критическим ядом. Но восторженными описаниями строящегося социализма не заражался ни в малейшей степени: советскую нашу реальность представлял себе достаточно ясно, а по аналогии с ней – и чехословацкую, и польскую, и болгарскую. Так что насчет светлого «лагеря социализма» никаких иллюзий у меня не было. В результате такого прочтения его статей возникала горькая мысль, что, как выразился в своей знаменитой балладе Генрих Гейне, «и раввин, и капуцин одинаково воняют». Что, конечно, не было правдой, поскольку на самом деле «раввин» и «капуцин» воняли не одинаково: западный мир был все-таки человечнее, нормальнее нашего.
В общем, в отличие от Шурика Воронеля, читая эренбурговские статьи, я не плакал.
***
Я старше Шурика на несколько лет, и, наверное, еще и поэтому воспринимал некоторые коробившие меня эренбурговские пассажи с известной долей цинизма. Во всяком случае, с пониманием, где там у него, как сказано у Бабеля, «кончается полиция и начинается Беня».
Говоря проще, я лучше различал границу, отделяющую то, что Эренбург говорил, потому что ТАК НАДО, потому что без этого никак нельзя было обойтись, от того, что он говорил ОТ СЕБЯ, – искренне, от души, от самого сердца.
Когда в 1949 году Сталину стукнуло 70, все, кто был допущен к целованию (кто в ручку, кто в плечико, кто – не стану говорить, куда), выполнили эту лакейскую обязанность. К хору соратников – отечественных и зарубежных – присоединились, конечно, и писатели. Прочувствованную статью написал Фадеев. В присущем ему вычурно-выспренном стиле высказался Леонид Леонов.
В свой черед выступил со статьей на эту тему и Эренбург. Промолчать, не откликнуться на семидесятилетие вождя он, понятное дело, не мог.
Впрочем, раньше ли, позже, в славословии вождя приняли участие практически все знаменитые наши писатели
и поэты.
У Пастернака, как известно, был долгий и бурный роман со Сталиным, пик которого получил выражение в знаменитых его стихах: «... За древней каменной стеной, Живет не человек – деянье, Поступок ростом с шар земной».
У Мандельштама это был не роман, а – трагедия, в сравнении с психологическими изломами которой меркнет фантазия Достоевского. И это тоже нашло отражение в гениальных (а главное, искренних) стихотворных строчках: «И к нему, в его сердцевину, я без пропуска в Кремль вошел, разорвав расстояний холстину, головой повинной тяжел».
Заболоцкий свою «Горийскую симфонию» написал без надрыва, но тоже, я думаю, с немалой долей искренности: неискренние стихи такими не бывают.
 Что касается сочинений публицистического
жанра, где мера искренности не так важна, как в поэзии, тут уж каждый старался
поднять планку льстивых восхвалений хоть на сантиметр, а все-таки выше другого.
Рекордной высоты достиг Леонид Леонов, предложивший начать новое летосчисление
со дня рождения товарища Сталина. (Кто знает, продлись жизнь вождя еще на
годик-другой – и предложение это, глядишь, было бы принято.)
Что касается сочинений публицистического
жанра, где мера искренности не так важна, как в поэзии, тут уж каждый старался
поднять планку льстивых восхвалений хоть на сантиметр, а все-таки выше другого.
Рекордной высоты достиг Леонид Леонов, предложивший начать новое летосчисление
со дня рождения товарища Сталина. (Кто знает, продлись жизнь вождя еще на
годик-другой – и предложение это, глядишь, было бы принято.)
С наибольшим достоинством вышла из этого щекотливого положения Ахматова. По личным обстоятельствам («Муж в могиле, сын в тюрьме...») ей тоже пришлось отметиться, присоединив своей голос к общему хору льстецов. И она это сделала. Но в стилистике, резко отличающейся от той, в которой выполнили эту задачу все ее собратья по перу.
В «Капитанской дочке» (незабываемая сцена!) Гринева, которого только что чуть не вздернули на виселицу, подтаскивают к Пугачеву, ставят перед ним на колени и подсказывают: «Целуй руку, целуй...» А верный Савельич, стоя у него за спиной, толкает его и шепчет: «Батюшка Петр Андреич! Не упрямься! Что тебе стоит? Плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку».
Гринев, как мы помним, не внял этому совету, признавшись, что «предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению».
А Анна Андреевна поступила именно так, как советовал Гриневу Савельич.
Она приложилась губами к руке палача. Но губы ее были холодны, как у мертвеца:
И благодарного народа
Он слышит голос: «Мы пришли
Сказать: где Сталин, там свобода,
Мир и величие земли!»
Это ведь только стиховеды думают, что «материя песни, ее вещество» состоит из слов, и хорошие стихи отличаются от плохих качеством этой словесной ткани, – то есть наиболее удачным выбором слов и правильным их расположением.
Некоторые стиховеды, впрочем, даже и этого не думают:
«Стихи делятся не на хорошие и плохие, а на те, которые нравятся нам и которые нравятся кому-то другому. А что, если ахматовский “Реквием” такие же слабые стихи, как “Слава миру”?» (М. Гаспаров. Записи и выписки. М., 2000, с. 42).
Это признание одного из корифеев современного стиховедения выдает его с головой.
И дело тут совсем не в том, что на самом деле «Реквием» – хорошие стихи, а «Слава миру» – плохие. То есть – не в том, что стихи, входящие в «Реквием», в отличие от «плохо написанных» стихов, входящих в цикл «Слава миру», написаны «хорошо».
Вся штука в том, что «хорошие» стихи отличаются от «плохих» не тем, что они «хорошо написаны», а тем, что за ними стоит «внутренний жест», движение души. Попросту говоря – чувство, все равно, какое: боль, радость, умиление, страх...
Вот даже у Исаковского, искренне желавшего восславить вождя, невольно вырвалось:
Мы так вам верили, товарищ Сталин,
Как может быть, не верили себе.
Был, значит, все-таки этот вопрос – кому верить: ЕМУ или себе?
Исаковскому, конечно, и в голову не приходит, что верить лучше все-таки себе. Нет, он верит ЕМУ. Только ЕМУ – и никому другому.
Но сам-то вопрос остается. Висит в воздухе.
У Ахматовой никаких таких оговорок и проговорок быть не может по той простой причине, что она к объекту своего восхваления никаких добрых чувств не испытывает. И даже не пытается это скрыть. Мы даже и голоса ее тут не слышим – только голос какого-то безликого, неизвестно где обретающегося «благодарного народа». Голос, в сущности, – неведомо чей и незнамо откуда раздающийся.
В другом ее стихотворении того же цикла эта двусмысленность выразилась еще яснее, еще отчетливее:
Пусть миру этот день запомнится
навеки,
Пусть будет вечности завещан
этот час.
Легенда говорит о мудром человеке,
Что каждого из нас от страшной
смерти спас.
Заметьте: это говорит не она. Это говорит – легенда. Сказать такое от себя у нее язык не поворачивается.
Положение Эренбурга, казалось бы, полностью исключало такой казенный вариант. «Выдающийся публицист и пламенный борец за мир» обязан был найти проникновенные слова, идущие от самого сердца и насквозь прожигающие сердца читателей. Положение обязывало: в номерах служить, подол заворотить.
Не скажу, чтобы Эренбург с честью вышел из этого положения (какая уж тут честь!). Подол пришлось заворотить довольно сильно.
Но выполняя эту непростую задачу и в конце концов выполнив ее на довольно высоком профессиональном уровне, он шел тем же путем, что Ахматова.
Статья его называлась «Большие чувства». Но о чувствах самого автора в ней – ни слова.
На протяжении всей статьи автор рассказывал нам о чувствах других людей, а не о своих собственных:
«...Я слышал, как это имя повторяли юноши и девушки Мадрида, подымаясь в Сьерру Гвадерраму... Это слово я слышал в глухих деревнях Албании...
...На берегу ярко-рыжей реки Миссисипи, где хлопок, негры и беда, я зашел в лачугу... На стенах – ни картинок, ни зеркальца, только одна маленькая фотография. Негр показал мне на нее: “Это Сталин”...
...Его видели молодые китайцы, освобождая древний Пекин, и он заходил в тюрьмы Индии, чтобы дружеским словом поддержать осужденных...
... Его встречали партизаны в Брянских лесах. Когда одну девушку спросили: “Кто тебя послал? Кто в твоем отряде?”, – она ответила: “Сталин...”
...Он был с французскими франтирерами, когда они освобождали города Лимузина. Вместе с партизанами Словакии он вошел в Банску-Быстрицу...
...Андре Дельмаса фашисты гильотинировали. За час до казни он писал: “Я думаю в последние минуты о нашем великом Сталине”...
...Сталину шлют подарки. Француженка, у которой фашисты расстреляли дочку, послала Сталину единственное, что у нее осталось от ее ребенка: шапочку. Такого подарка никто не получит, и нет весов, на которых можно взвесить такую любовь».
Статья пестрит географическими названиями, конкретными адресами, порой даже конкретными именами и фамилиями. Но все эти голоса сливаются в тот же абстрактный, безликий хор, что у Ахматовой. С тою лишь разницей, что у нее это хор «благодарного народа», а у Эренбурга – хор благодарных народов.
Как и у Ахматовой, все это говорит – не он. И у него тоже – «легенда говорит о мудром человеке, что каждого из нас от страшной смерти спас».
В сущности, Эренбург тоже последовал совету Савельича. Его поцелуй был таким же холодным, таким же формальным, как у Ахматовой. Разве только более долгим.
Именно так я и воспринял тогда ту эренбурговскую статью. И про себя даже отметил, что он вышел из положения довольно ловко. Старался не врать, не кривить душой. О своих собственных чувствах не сказал ни слова. А про шапочку вряд ли выдумал: шапочку погибшей своей девочки француженка Сталину, наверно, и в самом деле послала. Ее любовь к неведомому ей идолу, наверное, была искренней (если может быть искренней такая абстрактная любовь). Этой ее искренностью Эренбург прикрывал, маскировал отсутствие своих собственных чувств к предмету ее любви.
Но ведь именно за это и возненавидел его тогда Шурик Воронель! И именно этого не мог он ему простить. Чтобы написать «Славу миру», не надо было быть Ахматовой. Такой стишок мог бы сочинить любой школьник. А чтобы написать статью, подобную той, что сочинил к 70-летию вождя Илья Григорьевич, надо было все-таки быть Эренбургом. Никто, кроме него, такую статью написать бы не смог.
Да, написана она была мастерски. Но это – именно то мастерство, которое Пастернак называл умением сказать хорошо то, что на самом деле плохо. Умением сказать искренне то, к чему не лежит душа.
Малая толика правды и искренности, присутствовавшая в каждой тогдашней статье Эренбурга, призвана была прикрывать главную, большую, тотальную ложь. И чем больше было в тех его статьях этой правды и искренности, чем ослепительнее сверкали в них блестки подлинных, выношенных, на самом деле умных и благородных его мыслей, чем выше подымался он к верхнему пределу дозволенного (а иногда даже и слегка переступал этот предел), тем лучше выполнял он назначенную ему роль, о которой позже так зло сказал (написал) Солженицын:
Жданов с платным аппаратом,
Шагинян, Сурков, Горбатов,
Старший фокусник – Илья...
Мог таким бы стать и я.
«Старший фокусник» – казалось бы, злее не скажешь. Но сам он однажды сказал о себе еще злее.
Когда-то, в молодости (в первом своем романе – «Хулио Хуренито») Эренбург определил себя так: «Пакостник с идейными задумчивыми глазами».
Это была озорная ирония.
Но в те времена, о которых я сейчас вспоминаю, роль его, увы, была именно такой. И чем более честными и правдивыми выглядели его «идейные задумчивые глаза», тем явственнее проступала назначенная ему гениальным сценаристом роль пакостника.
Сознавал ли сам Эренбург (или, по крайней мере, чувствовал ли) всю двусмысленность той своей роли?
***
Вот какую историю рассказал мне однажды Семен Израилевич Липкин.
Его и Василия Семеновича Гроссмана пригласил как-то к себе на дачу Вениамин Александрович Каверин. Предполагалось, что будет и Эренбург.
Но Эренбург в тот день не приехал. Не помню, то ли он заранее предупредил, что не сможет быть, то ли они ждали его какое-то время, а потом, так и не дождавшись, сели за стол.
На столе была водочка, какая-то закуска, – Василий Семенович, кстати говоря, любил выпить. В общем, вечер и без Эренбурга прошел неплохо.
А Эренбург приехал на другой день. И вчерашнее застолье повторилось.
Но стол теперь уже был другой. Вместо водки – дорогой французский коньяк. И закуска другая, побогаче.
Разница между вчерашним застольем и сегодняшним была так наглядна, что сразу стало ясно, кто тут главный гость, а кто – гости, так сказать, второго разряда.
Гроссман этой разницей был сильно уязвлен, и даже не стал скрывать своего раздражения. Но это свое раздражение он почему-то вылил не на хозяина дома, а на Эренбурга.
Он стал его задирать.
Началось с того, что он довольно язвительно поинтересовался, какие такие важные государственные дела помешали Илье Григорьевичу присоединиться к их компании, а им – уже вчера – отведать французского коньяку?
Эренбург подтвердил, что да, действительно, у него вчера была важная встреча, которую он никак не мог отменить. По ходу дела выяснилось, что встреча была с каким-то приехавшим в Москву иностранцем, одним из тех «борцов за мир», с которыми Эренбург был в постоянном контакте – как один из лидеров этого так называемого «движения сторонников мира».
Гроссман – в той же язвительной манере – выразил недоумение по поводу того, что «из-за такой ерунды» (словцо, возможно, было сказано более крепкое) Илья Григорьевич отказался от приятного вечера с друзьями.
— Борьбу за мир вы считаете ерундой? – спросил Эренбург.
И тут Гроссмана прорвало. Он произнес яростный монолог, смысл которого был в том, что эта так называемая борьба за мир – не просто ерунда, а ерунда вредная. Что все это – ложь и обман, не более, чем камуфляж, прикрытие агрессивной сталинской внешней политики. Что Сталин и наше родимое государство (даже и сейчас, когда «ус уже откинул хвост») играют в современном мире примерно ту же роль, какую перед второй мировой войной играли Гитлер и фашистская Германия. И что между этими двумя режимами, в сущности, нет большой разницы.
— Да? И кто же, в таком случае, по-вашему, я? – спросил Эренбург.
– А вы, – Гроссман уже не мог остановиться, – фашистский писака!
Услышав это, я просто обомлел. Такого оскорбления Эренбург снести, конечно, не мог. В связи с этим я вспомнил один свой разговор с ним... Совсем было уже собрался сразу его здесь изложить, как вдруг сообразил, что изложение это потребует довольно длинного отступления.
Каждая история имеет свою предысторию. Но эта без предыстории будет совсем уже не понятна. Так что – пардон. Читатель, я думаю, уже привык прощать мне эти постоянные мои «верояции в сторону». Ну, а если так, то, авось, простит и эту, несмотря на то, что она грозит разрастись в отдельную, самостоятельную историю.
Впрочем, история эта и сама по себе не лишена интереса. Да и важна для понимания некоторых особенностей хрущевской оттепели.
***
Летом 1961 года я опубликовал в двух номерах «Литературной газеты» большую (по газетным масштабам даже огромную) статью – «Если забыть о часовой стрелке».
Главными ее персонажами были Евтушенко и Вознесенский, проходившие тогда пик своей молодой славы. На их вечера в зале Чайковского, в Политехническом, а потом и в Лужниках ломились толпы. Не обходилось без нарядов конной милиции. В отделе юмора «Литературной газеты» (с этого начиналась моя статья) появилось сообщение: «Не присылать пародии на Е. Евтушенко и А. Вознесенского. Материал отработан полностью».
Смысл моей статьи (если коротко) состоял в том, что основой этого грандиозного успеха (сопоставимого, пожалуй, только со скандальным успехом выступлений Маяковского и Есенина) были фальшь и убожество советской поэзии предшествующего периода – та, как выразился Коля Глазков, «долматусовская ошань», в которую, как в черную дыру, провалились все гении русского «серебряного» века.
Высказал я эту нехитрую мысль, разумеется, не с такой прямотой, с какой сделал это сейчас, но все же – достаточно ясно. Евтушенко и Вознесенский, – говорил я, – могут претендовать на роль больших поэтов, истинных властителей дум, только если «забыть о часовой стрелке». То есть, – если забыть о том, что в русской поэзии ХХ века, помимо вот этой самой «долматусовской ошани», были Блок, Маяковский, Есенин, Ахматова, Пастернак, Цветаева...
Тут надо сказать, что Евтушенко и Вознесенского критика в то время не жаловала. Некоторые статьи о них напоминали модные в те времена фельетоны о тунеядцах и стилягах. И хотя в первых же строках моей статьи (даже не в первых ее строках, а в небольшой презрительной сноске) я резко от них отмежевался, заметив, что, прочитав такой «разбор», невольно испытываешь непреодолимое и естественное желание защитить не шибко нравящегося тебе поэта, мне было ясно, что многие мои читатели сразу же присоединят мой голос к этому общему хору. Чтобы этого избежать – или хоть как-то себя от этого обезопасить, – я постарался на всем протяжении статьи расставить (для тех, кто понимает) некоторые опознавательные знаки. Строчкам Вознесенского я противопоставлял строки Хлебникова и Цветаевой, в другом случае, поскольку имя Пастернака было тогда еще не упоминаемо, цитировал Тициана Табидзе в переводе Пастернака («Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут// Меня, и жизни ход сопровождает их...»). В общем, изо всех сил старался, чтобы читатель понял, ЧТО я имею в виду, говоря о забытой «часовой стрелке».
Как вы сейчас увидите, все эти ухищрения не шибко мне помогли.
Месяца два спустя после появления моей статьи тогдашний шеф нашего отдела Феликс Кузнецов отправился в командировку – если не ошибаюсь, в Калугу. Оттуда пришло душераздирающее читательское письмо, суть которого состояла в том, что из местного педагогического института уволили, исключив предварительно из партии, несколько профессоров – только за то, что они читали студентам стихи Евтушенко и Вознесенского.
Оттепель была тогда в самом разгаре, и Феликс поэтому еще был либералом. Он очень любил такие читательские письма. Прямо-таки обожал появиться в какой-нибудь глубинке этаким Зевсом-громовержцем – и восстановить справедливость, попранную местными мракобесами или дураками.
Незадолго до этой его поездки в Калугу был еще такой случай.
Позвонил мне Корней Иванович Чуковский (меня он знал лучше, чем других сотрудников тогдашней «Литгазеты») и попросил помочь в одном деликатном деле. Некто Мирон Петровский, милый, интеллигентный, одаренный молодой человек, работающий над монографией о нем (Чуковском), попал в беду. Он живет в Киеве. А Киев – не Москва, хрущевская оттепель тамошней жизни почти не коснулась. Не исключено поэтому, что Мирону грозят неприятности очень даже серьезные. Могут и посадить...
История, как выяснилось, была такая.
В Киевской, читай – республиканской, – молодежной газете появилась статья, в которой пять-шесть молодых людей, в числе которых был и подопечный Корнея Ивановича, обвинялись в разных политических грехах. Все обвинения – полная ерунда, разнузданная фантазия бойкого журналиста. Статья, между тем, была воспринята как руководство к действию, — так уж было принято в те времена. Всех упоминавшихся в ней ребят мгновенно исключили из комсомола, выкинули из институтов, где они учились, уволили с работ, где они работали. Короче говоря, – перекрыли им кислород. Ожидались и другие, гораздо более крутые меры. Даже если обойдется и без ареста, мальчику переломают спинной хребет, навсегда закроют ему дорогу в литературу. А мальчик – талантливый. Надо его спасать.
Мало на что надеясь, я поплелся с этой информацией к главному редактору. Но тот, вопреки моим ожиданиям, отнесся к моему лепету благожелательно (как потом выяснилось, Корней Иванович позвонил не только мне, но и в ЦК, и нашему главному с той же просьбой уже звонили оттуда).
Дело завертелось.
Явился ко мне Мирон, принеся злополучный «клеветон». Статья была солидная – на два газетных подвала. Называлась она лихо: «Конец литературной забегаловки». Картина, жирными мазками нарисованная ее автором, была ужасна. Некие растленные молодые люди вместо того, чтобы учиться или работать, отдавая все свои силы строительству коммунистического общества, собирались в каком-то гнусном притоне. И там читали стихи Пастернака, танцевали, раздевшись догола, вели (очевидно, между собой) антисоветскую пропаганду. А некоторые из них, – самые растленные! – сговаривались даже, тайно перейдя государственную границу, сбежать на Запад.
— Скажите, Мирон, что тут клевета, а что – правда? – спросил я.
Мирон честно признался, что он и его друзья действительно собирались и читали друг другу стихи Пастернака. Все остальное – полная чепуха. Голые не танцевали, антисоветской пропагандой не занимались, границу переходить тем более не сговаривались. Да и какая у них там, в Киеве, граница?
Ехать в Киев – разбираться с тамошними головотяпами, – как вы уже, конечно, догадались, вызвался тот же Феликс Кузнецов.
Приехав, он явился в редакцию газеты, опубликовавшей статью о конце литературной забегаловки, и поинтересовался: уверены ли ее сотрудники в достоверности изложенных в ней фактов? Сотрудники в ответ промямлили что-то невразумительное.
Тогда Феликс напрямую спросил у них, откуда они добыли весь этот сенсационный материал. И тут газетчики признались, что добывать, а тем более проверять им ничего не пришлось, поскольку статья поступила к ним в готовом виде прямо и непосредственно из Комитета государственной безопасности.
В былые времена даже самый ответственный корреспондент «Литературной газеты», услышав такое, сразу наложил бы в штаны. Но был, как я уже говорил, самый разгар оттепели. А кроме того, прибыв в качестве корреспондента столичной газеты с ревизией материала, появившегося в газете провинциальной, Феликс был уверен, что его козырь – старше. Короче, он не испугался, а прямехонько отправился в тот самый зловещий Комитет. Разыскал там людей, заваривших всю эту кашу, и ласково, по-отечески стал их... журить. Ребята, дескать, что же это вы делаете? Ведь все ваши обвинения – чистая клевета!
– Как это, то есть, клевета? – возмутились сотрудники Комитета. И выложили на стол свои доказательства.
– Знаем, знаем, как вы добываете эти свои доказательства, – усмехнулся Феликс, который, напоминаю, тогда еще был либералом.
Это предположение оскорбило их до глубины души. И, как выяснилось, они, в общем-то, были правы. Их методы с методами их предшественников и в самом деле не имели ничего общего. Предъявленные ими доказательства они вовсе не выколачивали из своих «клиентов» какими-нибудь недозволенными, строжайше запрещенными способами ведения следствия. Все факты, изложенные в статье «Конец литературной забегаловки», как выяснилось, действительно имели место. С одной только, как это им представлялось, совершенно не существенной поправкой.
На самом деле, оказывается, была в Киеве не одна «литературная забегаловка», а – три! Посетители одной (в их числе и был наш Мирон) собирались и читали стихи Пастернака. Другие юноши и девушки, раздевшись догола, танцевали друг с другом под магнитофонную музыку при мягком свете торшера. А третьи – вели разные политические дискуссии, иногда, наверно, и впрямь поговаривая о том, что хорошо было бы покинуть любезное отечество.
Само собой, участники всех этих – довольно разных, как видим, – молодежных собраний, понятия не имели друг о друге.
– Как же вы могли, – искренне изумился либерал Феликс, – свалить их всех в одну кучу?
– А мы обобщили, – объяснили ему сотрудники Комитета как коллеги – коллеге. И выразили даже при этом некоторое недоумение: мол, ему ли, журналисту, не знать, что такое художественное обобщение?
Как оказалось, нечто похожее произошло и в Калуге. Вернувшись оттуда (разумеется, победителем), Феликс, запершись со мной в своем начальственном кабинете, рассказал, как было дело.
 Приехал он в Калугу, явился в институт,
где произошло вышеописанное ЧП, и сразу – в партком. Что? Как? Почему? В
парткоме ему подтвердили: да, действительно, исключили из партии троих. Ну, а
потом, естественно, их уволили: не могут же оставаться на идеологической работе
люди, исключенные из железных рядов за серьезные идеологические проступки! А проступки-то
какие? Ну, разные. Но главный, самый большой идеологический грех проштрафившихся
преподавателей, как выяснилось, действительно состоял в том, что они
пропагандировали упадочные, идейно ущербные стихи Евтушенко и Вознесенского.
Приехал он в Калугу, явился в институт,
где произошло вышеописанное ЧП, и сразу – в партком. Что? Как? Почему? В
парткоме ему подтвердили: да, действительно, исключили из партии троих. Ну, а
потом, естественно, их уволили: не могут же оставаться на идеологической работе
люди, исключенные из железных рядов за серьезные идеологические проступки! А проступки-то
какие? Ну, разные. Но главный, самый большой идеологический грех проштрафившихся
преподавателей, как выяснилось, действительно состоял в том, что они
пропагандировали упадочные, идейно ущербные стихи Евтушенко и Вознесенского.
– Неопубликованные, что ли, стихи? – спросил Феликс.
– Почему неопубликованные? Опубликованные.
– За границей?
– Почему за границей? У нас.
– То есть, вы хотите сказать, что исключили из партии этих трех преподавателей только за то, что они читали студентам стихи советских поэтов, опубликованные в советской печати? – надавил Феликс.
Однако члены парткома не смутились, и давлению этому не поддались, – лишь безмятежно сообщили, что их хата с краю, поскольку компромат на этих профессоров пришел из ГБ.
Вдохновленный своим киевским опытом, Феликс прямиком отправился в местное отделение ГБ и задал сотрудникам, состряпавшим это дело, тот же вопрос: «Вы что, мужики? Совсем у вас, видно, крыша поехала! Какая же это идеологическая диверсия? Это ведь наши, советские поэты!»
– И тут, представляешь, – рассказывает мне Феликс с какой-то нехорошей, глумливой ухмылкой, – достает ихний главный из ящика стола газету, сует мне ее под нос и говорит: «Да? Советские, значит? А вот почитайте, что ваша родная “Литгазета” про них пишет!» Разворачиваю я эту газету и вижу, что там – ТВОЯ СТАТЬЯ!
Тут надо сказать, что у нас с Феликсом, хоть он и был тогда либералом, все-таки случались кое-какие идеологические разногласия. То он норовил ни к селу ни к городу всадить в какую-нибудь мою статью «цитатку из Хруща», то, наоборот, высадить из нее какую-нибудь цитату: Ахматовой или Цветаевой. И всякий раз при этом объяснял: «Старик, верь моему чутью. В литературе ты, может быть, понимаешь лучше, чем я. Но в политике, поверь, я смыслю больше».
За эту политическую сервильность и изворотливость мы либерала Феликса слегка презирали, хоть и старались ему этого не показывать. Но что-то он, наверное, все-таки чувствовал. И поэтому, рассказывая мне о том, как Калужская гэбуха прикрывала свое свинство моей статьей, он не скрывал испытываемого им чувства глубокого удовлетворения. Его искренне радовала открывшаяся вдруг возможность макнуть меня в то же дерьмо, в которое по долгу службы так часто приходилось погружаться ему. Показать, что это дерьмо – наше общее, что никуда нам от него не деться, что все мы одним миром мазаны. Поскольку, как любил он повторять, оправдывая разные более или менее сомнительные свои поступки, – жить в обществе и быть свободным от общества нельзя.
Все это, разумеется, осталось в подтексте, так сказать, за кадром. А «в кадре» – мы дружно посмеялись над идиотизмом туполобых калужских гебешников, и тем дело и кончилось.
Хотя – нет, не кончилось...
Вторая часть моей статьи, главным фигурантом которой был Андрей Вознесенский (с Евтушенко я разделался в первой ее части), начиналась так:
«ХХ век отучил нас удивляться. Полимеры входят в быт. Нас окружают ткани и меха, по своим качествам не уступающие настоящим. Вероятно, если завтра мы прочтем в газетах, что учеными осуществлен синтез белка, нам это тоже не покажется нереальным.
Существует и “синтетическая”, искусственная поэзия.
Ее не следует недооценивать... Хотя она и представляет собой имитацию, но эта имитация в наш век может быть доведена до потрясающего технического совершенства. Многие даже не почувствуют разницы между произведением, “синтезированным” талантливо и искусно, хотя и без всякой затраты живой крови, и живым детищем, рожденным в муках...»
Когда я сочинял этот абзац, мне, конечно, не могло прийти в голову, что и он тоже может стать оружием в руках цензора или редактора, не пускающего стихи Вознесенского в печать. Но вскоре (тоже, наверное, месяца через два или три после появления моей статьи) к нам в редакцию заглянул Андрей. И с грустью и обидой поведал мне, что В. Карпова (тогдашний главный редактор издательства «Советский писатель») «бодает» его новую книгу, ссылаясь, как и те калужские гебешники, на мою статью.
– Раньше, – рассказывал Вознесенский, – она в поте лица старалась отыскать у меня разные идеологические грехи, а теперь ей и искать-то нечего. Это, говорит, синтетическая поэзия, – и все. Так что она может сказать тебе спасибо, ты сильно облегчил ей ее трудную работу.
Не могу сказать, чтобы слушать это мне было приятно.
С новой книгой Андрея, правда, все обошлось.
Хитроумная Карпова и в самом деле пыталась «забодать» ее моими руками. Прочитав мою статью, она тут же отправила мне рукопись его «Треугольной груши» на внутреннюю рецензию. Ход, как ей, вероятно, казалось, был беспроигрышный: не стану же я, только что разгромив поэта Вознесенского публично, в закрытой, внутренней рецензии хвалить те самые (или такие же) его стихи, которые так резко критиковал.
Но я вышел из положения просто, начав свою внутреннюю рецензию так:
«Совсем недавно я опубликовал большую статью, в которой подверг резкой критике стихи Андрея Вознесенского. В этой статье я пытался определить место поэта Вознесенского в русской поэзии ХХ века.
Сейчас передо мной стоит неизмеримо более скромная задача: определить место, которое займет новая книга Вознесенского в ежегодной поэтической продукции издательства “Советский писатель”...»
После такого вступления я уже спокойно мог написать самую что ни на есть положительную внутреннюю рецензию на «Треугольную грушу». И «Груша» эта довольно скоро вышла в свет. Так что на поэтическую судьбу Вознесенского (равно как и на поэтическую судьбу Евтушенко) та моя статья никакого отрицательного воздействия не оказала.
Но все эти события (и калужский инцидент, и капкан, поставленный мне хитроумной Карповой, и мой ответный финт на ее ловушку) имели место быть, как я уже сказал, месяца через два-три после появления моей статьи. Главный, настоящий скандал вокруг нее разразился гораздо раньше.
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
E-mail: lechaim@lechaim.ru