ПРЕДАННЫЕ БЕЗ ЛЕСТИ
В. Кардин
I
До чего же мне не хотелось присутствовать на этом переливании из пустого в порожнее! Союз писателей умел найти повод вызвать людей и часами морочить им головы какой-нибудь ерундой. Едва не каждый день в почтовом ящике обнаруживаешь бумажку, настаивающую на твоем присутствии в малом или большом зале, в восьмой комнате. У дверей непременная секретарша записывает твою фамилию. На том интерес к тебе иссякает. Штатные говоруны произносили речи по любому поводу. Кого-то гневно осуждали или пламенно одобряли. Почти все это не имело никакого смысла и значения. Ты мог читать газету, листать журнал, – вечер загублен. На сей раз письменного приглашения не прислали. Довольствовались беглым телефонным звонком. Но следом за секретаршей позвонил друг и настойчиво убеждал в необходимости прийти. Он не больше моего любил такие посиделки, и отступать мне было некуда.

С такой же методичностью
Эльсберг годами «стучал»
на Ш. Не ограничиваясь изобличением
общей враждебности Ш. советскому строю,
Яков Ефимович распознал в нем наймита
вражеской разведки.
Сейчас, спустя годы, когда его уже нет, я вспоминаю его упорство, настойчивость и этот вечер, открывший нечто, казавшееся запредельным. Но, как выяснилось, при всей своей невероятности тоже входившее в литературную жизнь, сообщая ей особый, что ли, привкус. Поднявшись по привычно скрипучей деревянной лестнице на второй этаж, я осторожно открыл дверь восьмой комнаты и сел в углу на пустующий стул. Площадку держал Иван Иванович Чичеров – человек простодушный, лишенный тщеславного запала и склонности к речам. В левой руке у него была стопка исписанных от руки листков, в правой – стакан с водой. Почему именно ему выпала эта миссия, ответить не берусь. Да это и не слишком существенно. По крайней мере, на первом этапе, которым история не могла ограничиться. Разоблачение давних и недавних подлостей, преступлений входило в рутинную норму и, следовательно, смысл его ослаблялся. То, что глуховатым голосом, прихлебывая из стакана, читал Иван Чичеров, ни в какую норму не вмещалось. Тут присутствовало совершенно непостижимое извращение, лелеемое годами.
Перед смертью довольно известный, но мне лично не знакомый переводчик Ш. написал письмо о своем многолетнем друге, вернее – друге семьи, видном литературоведе Якове Ефимовиче Эльсберге, неутомимом борце за идейную непорочность произведений социалистического реализма и против ревизионизма любых мастей и видов.
На протяжении долгих лет, едва не каждый вечер, Эльсберг, не имевший семьи, заявлялся к Ш., сажал на колени его маленькую дочку, пил чай. Рассказывал о том о сем, что-нибудь вспоминал о жизни. Короче говоря, верный друг дома, сумевший доказать свою верность. Когда Ш. посадили, он, рискуя репутацией, продолжал вечерние визиты, принося то цветы, то конфеты. Настойчиво предлагая денежную поддержку. Дочка Ш. привычно устраивалась на коленях дяди Яши.
Все это донельзя трогательно. Если бы не одна подробность. С такой же методичностью Эльсберг годами «стучал» на Ш. Не ограничиваясь изобличением общей враждебности Ш. советскому строю, Яков Ефимович распознал в нем наймита вражеской разведки. Скажем, приезжает к нему родственница из Прибалтики и в каблуках ортопедической обуви доставляет – подумать только! – сугубо секретные сведения. Однако Яков Ефимович не из тех, кого проведешь! Он не зря столь беззаветно боролся с ревизионизмом – этим идеологическим прикрытием империалистических поджигателей войны. Однако с ортопедической обувью Эльсберг, похоже, хватил через край. Относительно возможности использовать ее для шпионских донесений пошутил сам Ш. в присутствии ежевечернего гостя. Тот смеялся вместе со всеми. А на следующее утро изготовил донос.
Эта его методичность насторожила следователя, ведшего допрос. А когда Ш. рассказал всю историю с хромой родственницей из Прибалтики, вспомнил свою шутку, следователь, не выдержав, раскрыл карты. Назвал виновника бед, обрушившихся на Ш. и его семью, на девочку, что карабкалась на колени любимцу семьи. Случалось, выходит, и такое.
Освободить невиновного следователю было не под силу. Но смягчить его вину и таким манером сократить срок заключения он сумел. А когда началась реабилитация, Ш. одним из первых вышел на волю. Дома от жены и дочери он услышал о трогательной заботе Эльсберга. О едва не ежедневных визитах, конфетах и т.д. Благодетель не заставил себя ждать. Явился с огромным букетом. Достав бумажник, предложил деньги, уселся на свое место, ожидая, когда повзрослевшая дочка Ш. влезет ему на колени. Но не был понят и покинул неблагодарный дом.
Ш. держал все в тайне и лишь безнадежно больной, зная о надвигающемся конце, не счел возможным молчать дальше и написал письмо. Его-то сейчас и читал Чичеров в комнате, где его напряженно слушали человек двадцать-двадцать пять. В том числе и я, так не желавший являться. Фигура Эльсберга была слишком заметна, и уже назавтра весть о письме разнеслась довольно широко. Но реакция последовала неодинаковая.
Относительно молодые сотрудники сектора Института мировой литературы встретили шефа цветами. Хотели поддержать, давая, видимо, понять, будто он ничем не хуже других деятелей такого рода. А вот, скажем, из редколлегии журнала «Вопросы литературы» незамедлительно вывели. Развернулась нешуточная борьба вокруг проблемы исключения корифея-стукача из Союза писателей. Уставом Союза подобный казус, с одной стороны, не предусмотрен. Но с другой-то... Началось перетягивание каната, Эльсбергу хватало защитников, без особого труда входивших в его положение. Нашлись и яростные противники. Выискались и сторонники того, что называется «спустить на тормозах».
Меня, признаться, эта эпопея заинтриговала. Не столько вопрос «исключить» или «оставить», сколько сама фигура героя, не вызывавшая прежде интереса. Я не пытался разглядеть его место в достаточно затейливой иерархии, не ценил широты кругозора (за книгу о Герцене отхватил Сталинскую премию в сорок девятом, издал книгу о Салтыкове-Щедрине, писал о Горьком, занимался теорией литературы). Я помнил расплывшуюся фигуру, манеру ходить, приволакивая ногу из-за врожденного дефекта.
По всей видимости, он ладил с подчиненными в ИМЛИ, коль они ничего лучше не придумали, чем устроить ему, опозоренному, торжественную встречу. Вполне вероятно, что с ними он держался не менее ласково, чем с дочерью Ш.
Стоило полюбопытствовать относительно ранних этапов эльсберговской биографии: всплывали какие-то странности. Образование – два курса историко-филологического факультета МГУ. После них, еще в 1920 году, девятнадцатилетним неофитом, поспешавшим за временем, начал печататься. Вскоре издал книгу о русском литературном футуризме. И – пауза. После нее – рапповские статьи в журнале «На литературном посту». Вся эта социологическая вульгарщина настолько примитивна, что читать «напостовские» статьи можно лишь по приговору суда.
Но почему, бойко начав, Эльсберг где-то в середине двадцатых вдруг как воды в рот набрал, перестал звать к дальнейшим победам?
Причины творческой паузы были настолько неожиданны, что вряд ли могли прийти кому-либо в голову. Да и не пауза это, а временная смена жанра. Смена, как выяснится в дальнейшем, не окончательная. Бурно начавшаяся литературно-критическая деятельность оборвалась по причинам, в общем-то, уважительным: неистовый ревнитель угодил в тюрьму. За уголовщину, расцветшую с началом нэпа.
Чтобы в этом хоть как-то разобраться, пришлось проявить упорство, близкое тому, каким славились «знатоки», а ныне славятся «менты». Единственное, что я выяснил на первом этапе, был факт пребывания молодого Якова Ефимовича за решеткой и написание им произведения на эту тему. Теоретические исследования, борьба за нетленные рапповские идеи исключались. Мне ничего не оставалось, кроме как отправиться в Ленинскую библиотеку и шуровать в каталоге. Так я обнаружил шедевр, рожденный в камере. Назывался он бесхитростно – «Во внутренней тюрьме ГПУ. (Наблюдения арестованного)». Дата – 1924 год. Я заказал книгу. И получил отказ: уникальное творение сберегалось в спецхране. А там читательские просьбы удовлетворялись лишь при наличии официальной бумаги, подтверждающей крайнюю нужность книги, недоступной простым смертным. Но почему в данном случае такие препоны? Пришлось отправляться к писательскому начальству, убеждать его, будто мне – кровь из носу – необходимо творение о внутренней тюрьме ГПУ середины двадцатых годов. Пишу, дескать, статью о различных видах мемуарной литературы. Доводы жидковаты, начальство выгораживало Эльсберга и опасалось обнаружения других стукачей.
Я сообразил не называть его фамилию, по карточке в каталоге зная псевдонимы: Шапирштейн-Лерс и просто Лерс. Один из них указал в своем прошении и получил бумажку для спецхрана. В Ленинке бумажку приняли без энтузиазма, но отказать уже не решились. Так я получил книгу, десятилетиями пылившуюся на полках спецхрана, не вызывавшую ни малейшего интереса, не востребованную читателями. А жаль. «Во внутренней тюрьме ГПУ» – творение не самое заурядное даже на сегодняшнем фоне, когда выпускается не только детективщина всех сортов и видов, но и пособия по самолечению, кулинарные и врачебные советы, рекомендации по мытью в бане, по уборке квартир и т.д.
Я. Эльсберг (он же Ж. Эльсберг, он же Я.Е. Шапирштейн-Лерс) на туманной заре своей творческой деятельности создал произведение в жанре, видимо, близком ему с младых ногтей. Книга о внутренней тюрьме ГПУ почему-то вышла в ничем не примечательном городе Бодайбо на Дальнем Востоке. Но столица отнюдь не забыта автором, посвятившим, о чем сказано на титульном листе, свой труд дому, что в Москве на Лубянской площади.
Гонорар за нее перечислялся на самолеты для эскадрильи «Красный Бодайбо». Таким образом, в корысти автора заподозрить нельзя. Ни в коем разе. Равно как и в аполитичности, в безразличии к советскому государству. Свою неистощимую любовь к нему бывший студент историко-филологического факультета доказывал делом, не щадя творческих сил. Даже находясь в тюрьме и не намекая на свою невиновность. Да и вообще, какие тут могут быть ошибки? Согрешил. Видимо, по части спекуляции или чего-то в таком роде. Подобно сокамерникам. О них-то и написал молодой, многое обещавший Я. Эльсберг. Про каждого – отдельный, вполне умело изготовленный очерк, подтверждавший справедливость, даже необходимость ареста и содержания за решеткой.
Если в трагической истории Ш. эльсберговские доносы сыграли зловещую роль, то, рисуя судьбы товарищей по нарам и параше, он прежде всего воздавал должное ГПУ, которое так умело, тщательно очищает советское общество от мошенников. Среди них и протекали дни Эльсберга, заполненные вдохновенным творчеством.
А зачем, собственно, требуется курить фимиам чекистам, выполняющим свои обязанности? Может, и не требуется. Душа взывает; будущий лауреат Сталинской премии спешит доказать свою преданность делу Феликса Эдмундовича и его славных соратников, пересажавших сотни тысяч граждан, не вдаваясь в такие мелочи, как ответственность за каждый арест. С этой точки зрения, труд одного из ревнителей рапповской мудрости, а в дальнейшем – мудрости соцреалистической был не ахти как, но все-таки полезен. Писал-то человек не посторонний, а знающий что почем. Возможно, чем-то и рисковавший: не приведи Б-г, сокамерники прочитали бы сочинение прежде, нежели оно попало в «чистые» руки чекистов. Я.Е. Эльсберг – один из родоначальников литературы во славу карательных органов, литературы, высоко ценимой советским государством во все времена. А когда государство ослабило эту свою заботу о ней уже в постсоветское время, у жанра нашлось достаточно покровителей. Сам читательский спрос – тоже ведь стимул.
Мне неизвестно, как сказалась забота ГПУ об авторе-зэке. То есть известно, что его деятельность получила поддержку. Иначе «наблюдения арестованного» так и не нашли бы себе применения. Разве что в позднейших задушевных беседах с молодыми сотрудниками Института мировой литературы, уверенными, будто доносительство украшает ученого. И вполне к лицу члену Союза советских писателей.
Самоотверженная – пишу без малейшей иронии – борьба Ивана Ивановича Чичерова за исключение Я. Эльсберга из Союза писателей ни к чему не привела. Хотя за исключение высказывались многие. В каком-то отношении это было знаменательное единоборство. И его плачевный финал тоже знаменателен. Вмешались влиятельные силы, каким надлежит произносить последнее слово. И его произнесли, безоговорочно взяв под защиту Эльсберга, показав, на кого они ставят. Государство одержало очередную победу над этикой, над элементарной порядочностью. Продолжая свое успешное движение к краху, не понимая и не видя его неизбежности.
II
Жизнеописания того типа, к какому мне сейчас надлежит перейти, могли бы исчерпываться формулой: «Проделал большой путь». Она, по-видимому, так или иначе пригодна для каждого редактора «Литературной газеты», начиная, скажем, с 1944 года. Для А. Суркова, В. Ермилова, К. Симонова, Б. Рюрикова, В. Кочетова, С. Смирнова, В. Косолапова и, наконец, А. Чаковского, обосновавшегося в редакторском кабинете в декабре 1962 года. Откровенные ретрограды чередовались с относительными либералами, функционеры – с писателями. Каждый накладывал свой отпечаток на газету, чем-то менявший ее недавний облик.
Докторский сын Александр Борисович Чаков
ский и впрямь проделал немалый путь, начав монтером на Московском электрозаводе (без рабочего стажа отпрыску интеллигентной семьи к вузовским дверям не стоило и приближаться). Постепенно он перешел к газетно-редакционной деятельности. Попутно закончив Литинститут имени Горького и аспирантуру Московского института истории, философии и литературы, специализировался на западной литературе, публикуя исследования об А. Барбюсе, М. Андерсен-Нексе, Г. Гейне.
С началом Великой Отечественной войны проблематику и характер творчества пришлось изменить. Западная культура представала в облике немецкого солдата, горланившего победные песни, не имевшие ничего общего с поэзией «недочеловека» Генриха Гейне. Об этом солдате и противостоящем ему бойце РККА пишет военный корреспондент А. Чаковский на Волховском фронте, потом на 3-м Прибалтийском. Выполняя редакционные задания, корреспондент стремится, вместе с тем, пробовать свои силы и в художественной прозе. Такое совмещение – показатель высокой работоспособности и трудолюбия. Хотя само сочетание, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда плодотворно. И не всегда оправданы похвалы газетной практике, дескать, исподволь готовящей художника. Газета предполагает иной уровень, иной характер постижения и воспроизведения действительности, иные, так сказать, допуски. Особенно в условиях достаточно крутого партийного контроля, не всегда ограничивавшегося газетным листом.
Скажем, военный корреспондент и опытный прозаик П. Нилин попал в грозное партийное постановление за то, что во второй части фильма «Большая жизнь» (по его сценарию), доверившись личным впечатлениям, не показал современной техники: его забойщики работали извечным обушком. Даже если на самом деле так обстояло, верить следовало партийным решениям, утверждавшим торжество механизации трудового процесса при восстановлении шахты. Декларативность грозных постановлений не освобождала писателя от необходимости неукоснительно им следовать.
Надо отдать должное Чаковскому, он это усвоил, делая первые шаги от газетной заметки к роману или повести. Писательские побуждения уживались с законами корреспондентской деятельности. Опыт, обретенный на фронте, когда урывками, между командировками и дежурством по номеру он приступил к трилогии о Ленинградской блокаде, подтверждает твердое знание границ дозволенного. К ленинградской теме он вернется в тетралогии «Блокада» (1968 – 1973), добиваясь большего охвата, но не забывая о «можно – нельзя». В осажденном, умирающем от голода Ленинграде, где в еду шла и человечина, а Жданов, сгоняя жир, играл в теннис, слишком многое значилось под рубрикой «нельзя».
Официальный ycпеx сопутствовал Чаковскому-прозаику в гораздо большей мере, чем читательский. Он много издавался, за похвалами и поощрениями дело не стало. Ордена, лауреатские звания (Ленинская премия и Государственные) не заставили себя ждать. Он – кандидат в члены ЦК, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета, секретарь правления Союза писателей и все такое прочее.
Только вряд ли его книги, написанные вслед за событиями под свежим, чаще всего командировочным, впечатлением кому-либо чем-либо запомнились, хотя читались они легко, не слишком обременяя голову и душу, давая поверхностное представление о человеке и факте.
С командировочным удостоверением Чаковский наведался в охваченную войной Корею. Страна и язык ему неведомы, он не пытается вникнуть в сложные причины войны между северной частью полуострова и южной. Зачем ему, коль достаточно мнения, поддерживающего просоветский Север? Так сочиняется повесть «Хван Чер стоит на посту», вызвавшая официальное одобрение. Подобного толка литература неизбежна. Только едва ли разумно и дальновидно выдавать ее за художнические достижения. Но в том-то и состояла партийно-государственная политика. Газетные, откровенно конъюнктурные критерии применялись к романам и повестям, созданным с обостренным ощущением того, куда дует ветер. Когда творец такого рода «бестселлеров» вроде бы ратует за какие-то человеческие достоинства, его вполне очевидные стремления слабо задевают читателя. Или не задевают вовсе. Роман слишком отдает газетой, газета же хороша к утреннему кофе. К вечернему чаю она уже утрачивает свою ценность.
Хотя Чаковский удостоился всех имеющихся в наличии у государства наград, ему не удалось перешагнуть грань, с какой начинается подлинный художник. Грань, знаменательную в России, где высок уровень литературной культуры. Когда начался очередной закрут, предшествовавший, о чем мы не догадывались, застою, стагнации, возглавить «Литературную газету» пopyчили Чаковскому. Газета, редактировавшаяся С. Смирновым, а потом В. Косолаповым, не отличалась слишком явной либеральной отвагой, но могла себе кое-что позволить. Вроде, скажем, вопроса в фельетоне, что проходил по отделу юмора: «Мы спросили вдову, где она достала сыр?» Или – подумать только – публикация «Бабьего Яра» Е. Евтушенко. Мелочи? Как посмотреть. Линия должна быть четкой и – никаких двусмысленностей.
В общем, выбор пал на Александра Борисовича Чаковского, благо руководимая им «Иностранная литература», не довольствуясь обличением капитализма, успешно вела героическую борьбу с ревизионизмом, расцветавшим на Западе. Опыт борьбы с этим злом перевешивал слабость писательского авторитета. Да и почему надо с ним считаться? Разве мало одобрения критики, поощрения власти? Разве то обстоятельство, что литератор с «пятым пунктом» никогда не значился среди космополитов, а при необходимости сумел бы дать им отпор, ничего не стоит? Разве мудро, глядя лишь в анкету, не замечать истинно партийных достоинств, каких порой не хватало кое-кому из его предшественников?
Сотрудники и авторы «Литературки» почувствовали жесткую руку нового редактора.
После устранения Хрущева наступило время если и не прямой реанимации сталинщины, то уж некоторых ее непременных черт наверняка. «Литературная газета», адресовавшаяся к советской интеллигенции, призывалась соответствовать попятному движению. Если же кто-то из наиболее способных, самостоятельных и, наконец, брезгливых сотрудников предпочел расстаться с газетой, Чаковский не усматривал в том беды. Он был убежден: не они делают погоду. Прежде всего нужны те, что готовы безропотно исполнять редакторские распоряжения. А таких, слава Б-гу, хватало. Растленность в журналистском сообществе была достаточно велика. Усугубить ее не составляло труда.
Вгоняя «Литературку» во вполне определенные идеологические рамки, главный редактор вместе с тем порой старался делать вид, по крайней мере, утверждал, будто газета толерантна, готова печатать разных авторов, давать место разным мнениям. Набравшись ханжества в коридорах ЦК, Чаковский охотно разглагольствовал относительно «Гайд-парка при социализме». Такой, дескать, он видел в идеале «Литературную газету». Только вот незадача: понятия эти вряд ли совместимы: либо Гайд-парк, то есть подлинная демократия, либо социализм, когда за демократию выдается довольно топорная подделка.
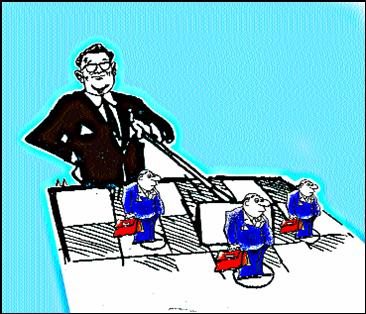
Прежде всего нужны те, что готовы безропотно исполнять редакторские распоряжения.
А таких, слава Б-гу, хватало. Растленность в журналистском сообществе была достаточно
велика. Усугубить ее не составляло труда.
Чаковский небезуспешно стремился соответствовать своему достаточно высокому положению. В коллективе держался обычно без заносчивости, иногда запанибрата, иногда по-хамски. Сотрудники именовали его «Чаком». Большинство из них без особых усилий плясало под его дудку, продолжая старинные, далеко не лучшие традиции. В свое время «Литературная газета», выполняя приказ, протрубила начало холодной войны. То был развязный фельетон о президенте США Г. Трумэне. Позже, особенно при С. Смирнове, этот тон несколько приглушили. Чаковский его возобновил в полной мере. Газета явно отдавала желтизной.
Считанные мимолетные встречи не оставили у меня определенного впечатления о Чаковском как о человеке. За исключением одной. Ей предшествовал разговор по телефону. Речь шла о моей «новомирской» статье. (А. Твардовский еще возглавлял журнал, и нападки на него не прекращалась). «Литгазета» напечатала совершенно доносительскую стряпню, легко поддающуюся опровержению. Находясь в Комарове, в Доме творчества, я написал ответ, в принципе согласовав его с «Новым миром». До меня дошли сведения, что Чаковский не склонен его публиковать. Однако в телефонном разговоре, держась вполне дружески, он заверил, что напечатает. «У нас, слава Б-гу, демократия». И, конечно же, не напечатал.
Миновало с полгода, и мы встретились с ним нос к носу на дорожке в Переделкине. Я попытался разминуться с ним. Не вышло. Он дружески протягивал руку. Так состоялся этот в некотором отношении довольно памятный разговор.
Да, соболезнующе уверял Александр Борисович, не получилось с моим ответом. На дыбы встал его первый зам. «Не ссориться же с заместителем?»
(Насколько это правда – не ведаю. Замечу лишь, что бывший зам., специалист по национальным литературам, сочинял тягомотину о дружбе народов и дружбе литератур.) Меня не занимали взаимоотношения главного редактора с заместителями. Хватало знания, что Чаковский – полный хозяин в редакции. И он, природно неглупый человек, быстро это уловил, предпочтя шутливый тон. Не соглашусь ли я поработать в редакции? Кем? Для начала, дабы войти в курс, сотрудником. «Между прочим, ставки у нас приличные. Жить будете лучше, чем на вольных хлебах». Я отказался. Он поднял планку. Предложил место заведующего отделом. Назвал оклад. Я подтвердил отказ.
Однако Чаковский не складывал оружие. Ему импонировала роль сирены. Продолжая, теперь уже без улыбки, принялся расписывать преимущества статуса рабочего члена редколлегии. Они пользуются специальным буфетом на четвертом этаже редакционного здания. Чтобы дверь открылась, следует по-особому постучать. Это мерзкое поветрие – буфеты и столовые специально для начальства – представлялось ему чем-то естественным. Естественным, видимо, было и его согласие дать бездарному драмоделу две свои повести на переработку во вполне беспомощные пьесы. Имя видного прозаика соседствовало с именем драмодела. Это тоже, получается, представлялось Чаковскому нормальным. И доходным. Хотя он, вроде бы, не нуждался.
Мой же вполне естественный отказ от должности со спецбуфетом казался ему ловкой интригой. Продолжая игру, он поинтересовался, не соглашусь ли я на должность главного редактора. «Соглашусь». Он полюбопытствовал, какой приказ по редакции я отдам, вступив в должность. «О вашем немедленном увольнении».
Разговор с Чаковским шутливым был лишь отчасти, лишь слегка соответствовал духу бесед на переделкинских улочках.
Коль рассуждать всерьез, я только гораздо позже пришел к убеждению, что от затянувшихся послевоенных трудностей, от холодной войны доставалось семьям вчерашних солдат, а Чаковскому, его духовным собратьям, их кукловодам такие тяготы были на руку. Их заинтересованность в «железном занавесе» вне сомнений. Он стимулировал разорительную гонку вооружений, позволял усиливать гонения на литературу, вынуждая к молчанию истинных творцов, учинять погромы в кинематографии, в генетике, в других сферах науки, напрямую не причастных к «оборонке». Позволял изгонять довольно слабый дух свободомыслия, принесенный с войны, из похода по соседним странам, из «встреч на Эльбе» с американскими солдатами и офицерами. Поднимать градус напряженности в мире, затевая локальные войны, вроде той, что заставляла Хван Чера маячить на посту, охраняя режим корейского Сталина – Ким Ир Сена, в прошлом подвизавшегося инструктором политуправления Дальневосточного военного округа.
Вторая мировая война не до конца, но все же открыла лидерам США глаза на советских коллег, на их двоедушие и коварство. На опасность, исходившую от них. Послевоенный «план Маршалла» фактически бескорыстно предлагал осязаемую экономическую помощь странам, пострадавшим от Гитлера и его сатрапов. Да, он усиливал роль США в Европе, в мире. Но не за счет территориальных приращений, военных баз на старом континенте. Не ценой вмешательства во внутренние дела. О чем талдычила наша пропаганда.
Только вот незадача:
понятия эти вряд ли совместимы:
либо Гайд-парк, то есть подлинная демократия,
либо социализм, когда за демократию выдается
довольно топорная подделка.
Внутренние дела в стране, согласившейся на «план Маршалла», переставали быть тайной за семью печатями. Возникала относительная прозрачность, затруднявшая, а то и исключавшая такие кампании, как борьба с космополитизмом, «дело врачей». Исключавшая, быть может, убийство С. Михоэлса. Иными словами, имелись бы реальные шансы изменить жизнь народа к лучшему, многое из того, что мы совершаем сегодня, можно было совершить позавчера. И не надо тешить себя пошлой мудростью, гласящей: «История не имеет сослагательного наклонения». Ее отвергал еще Пушкин, от нее, наконец-то, лишь в последние годы, отказались у нас. В «железном занавесе» нуждались советские руководители, вынашивая планы новой войны. На сей раз уже с Америкой. Ради того рылся втайне подводный тоннель, соединявший Сахалин с материком.
Мог измениться и нравственный климат. Эльсберга, скажем, выгнали бы из писательского Союза. Чаковский занял бы скромное место в литературной жизни, соразмерное его способностям. Но именно такие, как они, лезли из кожи вон, дабы упрочить свое положение. Особенно те из них, кто ощущал его шаткость из-за своей «национальной неполноценности». Они-то, «преданные без лести», писали статьи и книги. Открывали зрителям глаза на «врагов», делая двуличие нормой жизни.
Страны, принявшие «план Маршалла» – Франция, Англия, Италия, Швеция, Норвегия, Дания, Голландия, Люксембург, Австрия, Ирландия, Исландия, Греция, Швейцария, Турция, Португалия, Западная Германия, не став сателлитами США, благополучно восстановили свою экономику и пользовались ее плодами. Советский отказ от «плана Маршалла», распространенный и на страны восточной Европы, – чудовищная ошибка сталинского руководства. Одна из ошибок, граничивших с преступлением.
Хорошо быть умным задним числом. Но в тот день я думал, что писатели, подобные моему случайному собеседнику на переделкинской улочке, возглавляя литературные журналы и газеты, создавая шедевры, высоко ценимые на верхних этажах советской иерархии, наносили вред нашему обществу, нашей литературе, их деятельность дискриминировала талант и правду. (Эти две вещи взаимосвязаны.) Насаждала цинизм.
III
Именно в торжествующем цинизме видится мне величайшая беда советской культуры, советского искусства, литературы. Знание действительности подменялось расчетливым знанием того, как и что целесообразно о ней писать, показывать на сцене и экране. Целесообразно с точки зрения получения наград, званий, тиражей, высоких гонораров. Истинные, художественные задачи терялись, отступали на второй, на десятый план. К достижению их стремились единицы, зачастую обреченные на роль изгоев. А то и зэков.
При Чаковском, главном редакторе «Литературки», когда шел процесс над А. Синявским и Ю. Даниэлем, газета публиковала самые мерзкие статьи и отклики, хотя иные сотрудники редакции симпатизировали подсудимым. Но, симпатизируя, делали все, что от них требовал редактор, испытывавший искреннюю неприязнь к молодым писателям, шедшим на риск ради того, чтобы выложить частицу правды. Опасность таилась не только в их текстах, печатавшихся заграницей. Опасен был сам прецедент. Опасен лично Чаковскому как сочинителю, увенчанному лаврами. Коли правда то, что пишут Синявский и Даниэль и, легко предположить, какие-то еще «подпольные» авторы, готовые рисковать, посылая свои рукописи в «самиздат» или за кордон, то официальная советская литература, увенчанная Сталинскими и прочими премиями, ставится под сомнение. Нуждается в дополнительной защите.
Она не заставила себя ждать. Заместитель заведующего одного из отделов «Литературной газеты», специалист по «теме рабочего класса» (имелась такая ценнейшая тема), профессиональный критик М. Синельников сочиняет монографию, воспевая своего главного редактора. «Диктует время» назывался его труд. Не исключено, что в глубине души он прекрасно знал цену творчеству шефа. Монография эта припозднилась, ибо увидела свет, когда время для подобных сочинений, когда эпоха, где мог процветать Чаковский, близились к закату. (Прошу не путать автора «Очерка творчества А. Чаковского» с поэтом, переводчиком, публицистом М. Синельниковым. B отличие от первого инициалы его не М.Х., а М.И.) Сам метод написания апологетических монографий, посвященных творчеству литературных начальников, отдает расчетливым холуйством. Он стимулирует беспринципное стремление поднять собственные акции с помощью влиятельного покровителя, который отнюдь не препятствует дифирамбам на свой счет.
Еще один из питомцев «Литгазеты», еще один заместитель заведующего отделом, Соломон Смоляницкий, в семидесятые годы умудрился издать две монографии о творчестве главы писательского союза Г. Маркова. Правда, он не единственный, кто прославлял ныне благополучно забытого прозаика, некогда перебравшегося в столицу, дабы собственным присутствием и творчеством повысить уровень писательского сообщества.
Если у читателя сложится впечатление, что я нарочито подбираю еврейские фамилии, то он не ошибется. Действительно, проблема, условно обозначенная в названии «Преданные без лести», в моих заметках рассматривается с вполне определенной стороны.
Упор на цинизм, пронизывавший советскую литературную жизнь, на мой взгляд, вполне закономерен. Цинизм, о чем у нас часто и охотно забывают, подобен яду продолжительного действия. Такой яд губительно действовал на прозу, поэзию, драматургию. Сплошь и рядом талантливо начинавшие поэты, прозаики, драматурги, заражаясь им, утрачивали дарование, превращались в холодных сапожников, знающих ремесло, но не способных вложить в него душу. А без нее литература мертва.
Старательно обходя эту сторону, у нас всячески подчеркивали значение идеологии. Но и не отрицая его, думаю, что духовная немощь, порожденная цинизмом советских времен, унаследована в постсоветские годы. Отсюда наши частые сегодняшние разочарования, засилье низкопробных изданий, книжек с откровенным прицелом на невзыскательный спрос.
Что до подхалимских монографий о литературных начальниках, не столь уж сильных в писательском искусстве, то здесь достаточно потрудились и вполне русские авторы. Осанну Г. Маркову пел и С. Залыгин, всегда знавший, кого хвалить, а кого хулить. Но, думается, что и М. Синельников, и С. Смоляницкий подобострастными критико-биографическими сочинениями, посвященными руководителям Союза писателей (Чаковский был одним из них), своим лизоблюдством надеялись упрочить собственное положение, чувствуя его шаткость в атмосфере государственной политики антисемитизма.
Я готов к тому, что, опровергая меня, кто-то сошлется на две первые главки моих заметок. Смею заверить: они нисколько не противоречат словам о государственном антисемитизме. Наоборот, не только не противоречат, но и подтверждают их.
IV
Отличие нашего государственно
го антисемитизма от антисемитизма, скажем гитлеровского, в том, что он откровенно не декларировался. Максимум допустимого в пору наибольшего ожесточения – газетные фельетоны с соответствующими фамилиями. Интернационализм, пусть и довольно примитивный, когда-то действительно почитался советским мировоззрением, но отошел в область «преданий старины глубокой». Только переход этот надлежало не замечать. Особенно западной интеллигенции, западным правящим кругам, слишком хорошо помнящим нацистскую идеологию в час ее торжества, оплаченную реками крови.
Если политика вообще не жалует откровенность и чистосердечие, то «национальный вопрос», точнее – практика его решения в нашей стране достигла вершин лжи и коварства. Поэтому (и не только поэтому) едва ли не в каждой области имелись свой «Эльсберг» и свой «Чаковский». Хватало их – имею в виду лишь национальный признак – в определенных областях науки, прежде всего сопряженных с проблемами войны и армии. Здесь они подчас действительно являлись ключевыми фигурами. Свое соответствие столь высокому положению доказывалось не статьей для сборника, не публицистикой на темы дня и речами о «текущем моменте», но достижением осязаемых целей. В Арзамасе-16, где под руководством Ю. Харитона создавалась советская атомная бомба, хватало ученых «нежелательной национальности». Число их определялось практической надобностью. Они не ходили ни в париях, ни в фаворитах. Отношение к каждому диктовалось осязаемой пользой, им приносимой.
Много позже мне посчастливилось познакомиться с одним относительно молодым физиком-«арзамасцем». Он обладал крайне неблагозвучной фамилией, соответствующим акцентом, а также неистощимым запасом оптимизма. Жестикулируя, тщетно пытался когда-то объяснить мне процесс атомного распада. В наши дни мы редко встречаемся. Он, почтенный академик с солидным стажем, читает лекции в одном из столичных вузов и пользуется популярностью у студентов.
В гуманитарных же областях при советской власти так или иначе существовала квота. Иногда негласная, устанавливаемая на местах. Процент лиц с «пятым пунктом» не должен был превышать определенную норму. Безотносительно к интересам дела. Сами начальники, отнюдь не обязательно страдавшие ксенофобией, следили, дабы норма эта свято блюлась. Тот же Чаковский на посту редактора «Иностранной литературы» и «Литературной газеты» не гнушался точно таким же манером доказывать свое соответствие партийному рангу.
Но если ученые-оборонщики с «пятым пунктом» честно вносили свой вклад в реальное дело, уравновешивая ядерное могущество США и таким образом снижая угрозу войны, то вклад «полезных евреев» в гуманитарных областях вряд ли чего-либо стоил. Ни монографии Я. Эльсберга, ни проза А. Чаковского какого-либо следа в русской литературе, русском литературоведении не оставили и не могли оставить. Не думаю, будто воспитательская деятельность автора «Внутренней тюрьмы ГПУ», его монографии о Герцене и Салтыкове-Щедрине принесли сколько-нибудь значительные плоды. Воздействие же художественных творений, написанных на уровне книг «Хван Чер стоит на посту», вообще не поддается какой-либо фиксации.
Аналогичную в чем-то функцию выполняли историк Исаак Минц и философ Марк Митин. Первый удостоился звания Героя Социалистического Труда. Государственных и Ленинских премий. Второй состоял членом ЦК и депутатом Верховного Совета.
Вряд ли эти звания, посты и награды что-либо говорят об истинном вкладе в науку. Мой давний друг, видный военный историк, убеждал меня, что И. Минц в научном споре иной раз мог поступить не совсем так, как хотелось кому-то наверху. Не верить ему не смею. Но как забыть деятельность И. Минца, участвовавшего в фантастической фальсификации истории гражданской войны?
Помимо исполнения прямых обязанностей оба академика самим фактом своего функционирования призваны были свидетельствовать об отсутствии в Советском Союзе государственного антисемитизма. То есть выполняли вполне определенную и не слишком достойную роль. Свидетельствовали они на самом деле о коварстве советской национальной политики, о ханжестве, вошедшем в плоть и кровь. О надежде, иной раз переходящей в уверенность, будто зарубежных представителей не так уж сложно обвести вокруг пальца.
Но тут случалось по-всякому. Л. Фейхтвангер, побывав в Москве в 1937 году, поверил в сказки о врагах народа и написал книгу «Москва 1937», незамедлительно вышедшую у нас. Что свидетельствует о ее, мягко выражаясь, лживости. А также о желании автора быть обманутым.
Андре Жид, посетивший Москву годом раньше, принял на веру далеко не все, что ему показывали и говорили. Я оказался среди школьников, непредусмотренно встретившихся с французским писателем в Парке культуры и отдыха. Он, догадавшись, что встреча не инспирирована, попытался через переводчика общаться с нами, пораженный, что никто из нас не знает ни одного западноевропейского языка. Да и вообще, боюсь, мы, растерявшиеся, имевшие смутное представление о жизни в своей стране, а уж тем паче за рубежом, произвели на него не самое отрадное впечатление. В памфлетах, написанных уже во Франции, он не слишком одобрительно отзывается об увиденном, услышанном. И, в частности, о молодежи.
Впечатления заграничных гостей – вечная головная боль советского руководства. Потому-то демонстрация таких интеллигентов, как Я. Эльсберг и A. Чаковский, отлично знающих, что, кому и как сказать, для советских деятелей высокого ранга куда важнее, нежели забота о пропитании горожан и селян. Потому-то следовало выгораживать клеветника-доносителя или поднимать на должностную высоту вполне второстепенного прозаика и публициста. Они умели поддержать разговор с иностранными гостями, найти ответ на любой каверзный вопрос, опровергая правду, почитаемую у нас клеветой. А при необходимости «дать отпор». Это считалось высшей доблестью.
Так что когорта «Преданных без лести» оставалась малочисленной, тщательно подобранной. Лица, составлявшие ее, имели все основания демонстрировать соответствие задачам, что на них возлагались. С неоправданно задранной головой они исполняли весьма недостойную роль. Так воплощался один из принципов, каким руководствовались политики с психологией временщиков: после нас хоть потоп. «Преданные без лести» мало чем от них отличались. Зато и те, и другие резко отличались от людей, честно трудившихся на благо родины, ее народов и сильно не избалованных фортуной. Сами эти люди, разделявшие общие тяготы и лишения, к тому же много страдали от антисемитизма, что периодически вспыхивает на российских – и не только российских – просторах. Ответом на него служат гордые слова одного из героев Бориса Пастернака:
Я тридцать лет вынашивал
Любовь к родному краю
И снисхожденья вашего
Не жду и не теряю.
Упор на цинизм, пронизывавший
советскую литературную жизнь, на мой взгляд,
вполне закономерен.
Цинизм, о чем у нас часто и охотно забывают,
подобен яду продолжительного действия.